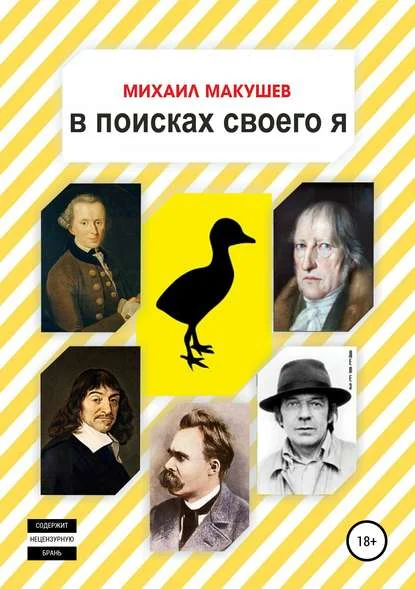Предисловие
По мысли Канта, все эмпирические понятия имеют синтетические происхождение. Точно так же чувства и понятия чистого разума обладают первоначальным синтетическим единством апперцепции. Правда, Кант не смог найти эту синтетическую основу, которая является обязательной и безусловной для чувств, эмпирических понятий и понятий чистого разума. Его трансцендентальная философия стремилась выяснить происхождение знаний, найти начало мышления, но, по мнению Гегеля, не преуспела. Кант тоже это понимал и рассчитывал создать только канон. В данной книге, мы предпринимаем ещё один опыт трансцендентальной философии и, на наш взгляд, предлагаем этот ответ на её самый интересный вопрос – о начале мышления.
Глава 1 Гадкий утёнок и структура языка
Эпиграф: «Нет устойчивых фактов,
всё течёт, недоступно, удалено
наиболее прочны ещё, пожалуй, наши
мнения».
Ф. Ницше.
Я считал себя Гадким Утёнком примерно до шести с половиной лет. Это мнение стойко держалось с тех пор, как я себя помнил, и изменилось в один день, странный во всех отношениях. В этот день хоронили моего отца… Солнце пряталось за тучи, когда я вышел на улицу. Никаких друзей ещё не было, но за спиной, будто, выросла воздушная стена и помешала вернуться домой. Я пошёл в ту сторону, где мы обычно играли… Только Любка одиноко стояла у своих ворот и печально глядела в даль. Когда я приблизился, глаза у неё наполнились горечью, кажется, она знала…
Я остановился рядом и запрокинул голову, на всякий случай приготовившись сказать про отца, но пока дерзость позволяла мне молчать, Любка была взрослой женщиной. На секунду её лицо стало злым, потом по нему пробежала какая-то вина, и она с неожиданной лестью сама сказала:
– Ты симпатичный мальчик и уже многим нравишься! – Я отнёсся к её словам скептически. Любка слыла пьяницей и проституткой, но некая радость возникла. Я сообразил, что никогда не смотрел на себя с этой стороны. Казалось, Любка и знает. Радость хлынула сильней. Мой скептицизм стал таять, перед мысленным взором засияла голубая, небесная чистота. Солнце в это время выглянуло из-за тучи и ласково согрело кожу. За моей спиной выросли крылья, которые до сих пор со мной.
Я все-таки должен задать себе вопрос, почему в раннем детстве у меня о себе такое впечатление: Гадкий Утёнок? Я был вполне любимым ребёнком. Одна история, оказавшаяся ради меня в семейном предании, позволяет мне судить об этом, не смотря на детское впечатление строго обращения… Баба Марфа однажды рассказала, как заглянула в окно детского садика, куда меня только что сдала. Она увидела, что воспитательница хлещет меня рукой по заднице и по спине одновременно. Я во весь голос ревел после расставания с бабкой. Она вернулась, сообщила воспитательнице всё, что о ней думает, и увела меня домой… Матери было велено искать другой садик.
Мать тоже не забыла эти хлопоты и однажды показала мне садик, куда я сначала ходил, даже сказала, что я был в одной группе с той девочкой, в которую потом влюбился в школе. Такая длинная связь с этой девочкой меня, конечно, впечатлила, но садик я совершенно не помнил.
Я вообще многого не помню… не помню, как делали фотографию, где папа, мама и я. Я смотрю в сторону фотографа, тянусь к маминой груди за защитой. Не помню с ней таких близких отношений… Помню, как мама привела меня в больницу, заискивая, говорила с какой-то полной тётей в белом халате. Та сурово набирала воду в огромную белую ванну. Я никогда таких больших ванн не видел. Потом мама куда-то ушла, сказав: «Стой здесь!». Казалось, всё идёт, как обычно. Я ждал маму и фантазировал о ванне. Казалось, в ней можно бродить по грудь, удобно упираясь ногами в дно. Можно было даже нырять. Я однажды нырял в речке, правда, спина торчала, и течением сносило. В ванне нырять было бы не в пример удобней. Я уже мечтал об этом… Тем временем, все сроки возвращения мамы прошли. Я спросил у тёти, где она, и тётя дала ответ, который меня обескуражил. Мама сегодня вообще не придёт, а мне надо мыться. Кажется, речь шла об этой ванне! Но, говоря со мной, тётя уже выключила воду. Она приказала раздеваться до гола и мыться с мылом. Я даже не возразил против того, чтобы раздеваться до гола, только попросил побольше воды.
– Утонешь, – сказала тётя, уходя в соседнюю комнату.
Дверь в дверном проёме отсутствовала. Я был доступен подглядыванию, но тётя молча дала понять, что смотреть на меня не собирается…
Тёпленькая полоска воды на поверхности быстро остывала и досаждала сыростью. Я втискивался в воду глубже, но дно жгло холодом кожу. Мне ничего не осталось, как мыться, для этой цели тётя выдала новенькое мыло со свежими оттисками. Когда я поворачивал его в ладошках, мыло норовило выскользнуть и больно стукнуть по ноге. Скоро я догадался, как можно меньше им измазаться, смыл синей мыльной водой то, что намазал, и без спроса вылез из ванны. Майка и плавки показались мне тёплыми и ласковыми… Но в этот момент меня мучили ощущения Гадкого Утёнка. Суровый тётин гнев мог обрушиться на мою голову: я плохо помылся. На новеньком мыле сохранились до мельчайших подробностей свежие оттиски…
Тётя молча согласилась с моим одеванием, даже не взглянула на мыло и повела меня по коридору. В маленьком кабинете, куда мы пришли, сидела белая маленькая тётя, которая властно отпустила полную тётю. И та покинула меня, как оказалось, навсегда в жизни. Маленькая тётя была со мной ласкова и сразу вызвала доверие. Мне, правда, показалось, что совсем не обязательно брать у меня кровь из вены, но никакие разумные доводы в голову не лезли. Я с ужасом смотрел, как шприц толщиной с мою руку медленно забирает кровь из вены. На руке шевелись невидимые волосики, я чувствовал их движение, но волосиков не видел. Ещё помню свои мысли по этому поводу: «Укол мне делали одному и ни за что». В последний раз уколы ставили всей детсадовской группе, ещё мазали пальцы чёрной краской и прикладывали к холодной, гладкой доске, но это было не больно… После процедуры меня вела по коридору уже третья тётя в белом халате.
Две тёти в длинных, цветных халатах шли нам навстречу. У одной тёти халат распахивался до пояса, демонстрируя длинную, ночную рубашку, вся она была всклоченная, ещё сверкнула на меня огромными зубами и голову, зачем-то, поворачивала, проходя мимо. Поворачивая за угол коридора, я заметил, что она вообще стоит на месте, смотрит нам вслед горящими глазами…
Из-за поворота послышались догоняющие шаги, и раздался нелепый возглас: «Это мой сын!». Я вынужденно обернулся, потому что рядом не было других мальчиков и вообще детей. Растрёпанная тётя стояла рядом… Её губы непрерывно двигались, открывая все огромные зубы сразу. Тётя хотела быть ласковой и заискивающе наклонилась ко мне. Зрачки расползлись по радужной оболочке. В них тускло блестело и колыхалось какое-то пламя. Я увидел близко незнакомое, старое лицо, недоумевая, собрался, сказать, что у меня есть мама, но осёкся. Мама только что ушла, ничего мне не сказав. Самому мне никогда не приходило в голову, что можно иметь другую маму… вместе с мамой исчез папа, все родственники тоже исчезли друг за другом. Дольше всех держалась бабка, но стала прозрачной… Прежняя мама была молода, красива, все зубы сразу не показывала, носила аккуратные платья. Все сравнения были в её пользу. Я остро пожалел, что больше никогда её не увижу. Тётя протянула ко мне руки: «Иди к маме!». – Руки оказались возле моих рёбер. Я дёрнулся от них, уже готовый хныкать и врать, что у меня есть мама. Подруга тёти, которая давно стояла рядом и сосредоточенно смотрела на нас, вдруг схватила тётю за локоть и стала от меня оттаскивать… Тётя забилась и заборолась, стала рваться ко мне с силой, которую стоило применить на секунду раньше… На помощь подруге бросилась белая тётя, что вела меня по коридору. Вдвоём они оттащили новую маму на безопасное от меня расстояние… Скоро я оказался в палате. Дверь в коридор не запиралась. Моя кровать стояла рядом с дверью. Новая «мама» могла появиться в любой момент…
Ночь я провёл тревожно. Она не появилась, но утром в коридоре раздался сдавленный крик, будто, во время какой-то борьбы. Кажется, он принадлежал зубастой тёте. Больше крик не послышался, но зато мне мерещилось каждый день, что тётя входит в палату. Дверь медленно открывалась. Она стояла на пороге, плотоядно глядя на меня и пряча за губами большие зубы, после короткой борьбы мне приходил какой-то конец…
Кроме меня в палате было ещё два человека: сухой старичок в пижаме, всё время читавший журналы, и пузатый дядька со следами банок на спине. Оба соседа мной не интересовались, но старичок вызывал у меня больше доверия. Я решил поговорит с ним: тема разговора была – опасность для нас обоих. Пока я пытался сказать какие-то членораздельные слова, старичок молча косился на меня с подушки, потом продолжил читать. Я не нашёл в его лице союзника.
Как-то утром дверь в палату открылась. Моё сердце ушло в пятки, но вошла приветливая, молодая сестра в белом халате. Скоро спина пузатого покрылась банками. Я отважился спросить у приветливой сестры про зубастую тётю. Кажется, мне опять плохо удалось объяснить, что имею в виду. Мои хриплые слова были бессвязны и скоро оборвались. Но сестра поняла, ничего не уточняя, кратко сказала: «Сумасшедшую увезли». Почему-то, её слова не успокоили меня. Когда мысли о зубастой тёте нападали, я прятался под кроватью. Лежать там было твёрдо и совершенно бесполезно, я был виден с любого места в палате, по крайней мере, обозревал сам её пространство до потолка. Со стороны казалось, что я просто играю…
Отец снял меня с этой кичи. В один из унылых дней, который, казалось, никогда не кончится, через окно послышался его голос, громко звавший меня по имени. Не веря ушам, я влез на подоконник этого открытого окна. Под ним, действительно, стоял отец. Я даже не поздоровался с ним; морщась от улыбки, сразу сказал, что хочу домой. Отец протянул руки: – Прыгай!».
Я спрыгнул на руки, не веря, так и остался для скорости во время этого марша. Мы покинули больницу, по моему представлению, без всякого спроса. В самом начале пути я попробовал рассказать отцу про зубастую тётю. Он не вник, кажется, думал о своём. Тогда, затаив дыхание, я спросил про маму. Он дал машинальный ответ: «Она ждёт дома». Кажется, мама у меня была та же самая, но я побоялся уточнять. Когда мы дошли до знакомого перекрёстка, в моей голове посветлело. Я почувствовал, что возвращаюсь домой. Больница оторвалась… Но лицо зубастой тёти долгие годы врезалось в память. Я его узнавал у бабки за зелёным частоколом палисадника, что наблюдала, как я возвращаюсь из школы или иду в школу, а однажды узнал у жены. Она вдруг вздумала мне петь какую-то песню, глядя прямо в глаза и двигая губами по зубам. Я и раньше замечал, что она похожа на ту сумасшедшую, а одна её родственница была просто вылитой копией.
К сожалению, эти воспоминания не дают ответа на вопрос, откуда взялся Гадкий Утёнок. Он уже есть: проявил себя, когда я без спроса вылез из ванны.
Может, обратиться к воспоминаниям более ранним и отрывочным?
На мне майка и нет штанов. Ложка уже стучит о дно чашки. Я сижу за большим кухонным столом, ем сырые яйца с хлебом:
– Хочу ещё! – крикнуть получилось отчётливо, но всё равно интересно: поняли меня или нет. Обычно я слышу в ответ одни вопросы… На этот раз мама не переспрашивает, но говорит совсем не то, что я ожидал:
– Надо просить бабушку. Это бабушкины яйца!
– Надо просить бабушку! – виновато вторит ей отец.
Моя радость по поводу внятной речи стала остывать: «Кому я кричал?!». Бабушка сидит рядом на кровати, она уже встала и готова к действию, но сомневается: «Можно ли мне яйца?».
Мой аппетит впервые не встречает у неё одобрения. Я понял, что она сказала. Меня охватывает недоумение… Кажется, мне отдельно придётся просить бабушку. Я что-то мычу. От сознательных усилий слова исчезают из головы. Слушая себя со стороны, я сам себя не понимаю. Демонстрируя своё разорение, бабушка и лезет в подпол. Опять появляются два яйца. Я начинаю есть, но вкуснейшие яйца превратились в скользкое месиво…
Что это за чудной разговор был? Я не могу поверить, что бабушке жалко для меня яйца. Они навалены горой в глубокой чашке в подполе… Смысл этого разговора сейчас позволяет восстановить семейное предание.
Мать как-то рассказала, что я раздавил доской бабкиных цыплят. Ещё удивленно переспрашивала: «Ты что, совсем ничего не помнишь?». Я не помнил, но потом, будто, нафантазировал, как с интересом тянусь к жёлтеньким цыпляткам, облокотился на доску, что была мне по пояс. Когда доска медленно со мной упала и была поднята, под ней оказалось несколько замерших цыплят. От себя они ничем не отличались, вины я не чувствовал.
Видимо, мамина очередь была следить за мной. Бабка взяла с неё деньги за цыплят, и, я думаю, в том разговоре мать проявляла фронду.
Ей, действительно, удалось вбить клин в моё единство с бабкой. Кажется, с того момента я стал различать себя и бабку… Ещё припоминаю, как бабка пугает меня даже смотреть в сторону тоненьких, беленьких кур, что гуляют со мной во дворе. Она, почему-то, называет их цыплятами. Эти куры меня совсем не интересуют, а я – их. Запрет довольно неудобный. Кажется, я должен отводить глаза от каждой и бежать в другую сторону. Двор слишком ограничен для этого. Может, мне вообще стоять лицом к стенке?..
Я почти дотянулся до сознания проснуться, но раньше, чем это случилось, почувствовал себя в тёплой луже, а скоро стал осознавать в остывающей сырости и встал на ноги в кроватке. Оказалось, что баба Марфа уже не спит. Она спустила меня на пол, сняла мокрую майку и стала перестелить кровать… В кухне трещит печка. Я выбегаю посмотреть, как падают красные угольки в поддувало.
Вообще-то, мне запрещено лезть к печке, чтобы парировать возможные возражения, я сел на корточки подальше от заслонок. В поддувало только что выпал даже не уголёк, а маленький огонёк… Тамарка лежит на бабушкиной кровати под одеялом, никогда её там не видел. Вдруг она говорит обиженным голосом:
– Как не стыдно! Писька торчит.
Писька из меня всегда торчит, что такое Тамарка выдумала? Я и без того не уверен в своих действиях… Правда, сейчас я покрыт только кожей, но и майка не скрывала письку. Почему Тамарка никогда не обижалась? Мне в голову не приходило стыдиться… Я пробую представить стыд. Какая-то сырость в области живота представляется…
Кажется, в это время мне предписано стыдиться ссаться в кровать, и это – предписание, интонационное. Я искренне сотрудничаю с Тамаркиной интонацией, видимо, после этого стал в курсе, что меня не должны видеть голым: это – стыдно. В больнице в моём сознании это уже есть. Кажется, восприимчивость к смыслу интонации формирует моё сознание и связь с окружающими…
Еще один эпизод. Мы с Тамаркой ужинаем за маленьким кухонным столом. Я громко объявляю, что хочу какать, похвала обеспечена. Я молодец.
Бабка не похвалила, но соглашается: – Беги на горшок! – Бегу. Штанов на мне нет. Горшок – в двух метрах у печки, накрыт крышкой, но, кажется, не хватит времени с ней возиться. Я быстренько сажусь на пол, какаю рядом с горшком, кожа осталась чистой, мне радостно. Я – молодец!
Опять Тамарка обиженно хихикает: – Мы едим! – Она опять меня не одобряет. Бабка смотрит на всё молча, тоже не сказала, что я – молодец.
Какое-то сомнение в своих действиях у меня возникло, но это сомнение не дотягивается до терзаний Гадкого Утёнка. На самом деле, Тамарка никогда меня не смущала. Видимо, дело в её интонациях. Она ещё не взрослая, ей семнадцать лет, но я об этом не знаю… Вот, как бабке удалось сделать так, что я не могу потрогать духовку, не преодолев себя? Запрет никак не ограничен рамками времени, когда можно трогать, а когда нельзя, а ручка у духовки нагревается в последнюю очередь… Сначала она совсем не горячая. Вообще-то, бабка запретила трогать все заслонки, но я обжигался только о духовку… Когда она ещё совсем не горячая, я тоже могу прикоснуться к ней, только переломив себя, а летом, когда печка стояла нетопленной долгое время, трогал и другие заслонки. Их холод проникал в кожу пальцев, как ожог. Это было какое-то интонационное внушение…
Бабка уходила куда-то с Тамаркой, хотела взять меня с собой, но передумала, была поглощена предстоящим делом. Я был оставлен родителям.
Скоро матери тоже потребовалось куда-то уйти. Вопрос взять меня с собой даже не стоял, как виноватая, она говорила отцу от двери, что быстро вернётся. Всё интересное в этот день проходило мимо меня… Папа сидел на табуретке в кухне. Когда мама ушла, между нами повисло угрюмое молчание.
Я решил проявить инициативу в разговоре и сказал: – Хочу писить! Ведро стояло у печкой, я умел им пользоваться. Папа взорвался: – Ну, что тебе кепку подставить?! – Другой эпизод общения с отцом: мы сидим на корточках во дворе. Он нарисовал палочкой на песке ракету и решил мне доказать, что ракета летит, не как самолёт. На земле нарисован и самолёт с крыльями. Я заинтригован самолётом, бескрылая ракета рядом с ним совершенно не кажется мне неинтересной. Папа объясняет: «У неё отрывается первая ступень, она летит на второй, потом отрывается вторая ступень, она летит на третьей… Понял!?». Мысленно я уже полетел на самолёте, но как-то боязно вернуть папу к разговору о нём. Мне хочется понять, как крылья помогают ему лететь, но нужно понять, как летит ракета… Мне представилась бабкина изба, которая летит в небе. Ступенька отрывается от крыльца… Я всё равно не понимаю, как это помогает избе лететь. Вторая ступенька тоже отрывается. Изба летит только в моей фантазии… Третьей ступеньки у крыльца не было, я всё равно сказал папе, что понял, как летит ракета… Нет, папа не вызывает у меня никаких ощущений Гадкого Утёнка. Я, скорее, чувствую себя в опасности… Когда я в последний раз видел бабкину избу, летевшую в небе и терявшую ступени от крыльца, она была затонувшей в земле. Только кончик крыши торчал, как нос корабля…
Когда отца уже не было на свете, баба Марфа сказала, что отец был уважительным сыном. Её называл всегда «мама», никогда: «мать». Однажды сильно на неё разозлился, но всё равно выговорил правильно. Это – система уважения. Разумеется, речь идет об уважении к мнениям старших. Сами старшие на равных боролись за свои мнения… Семейное предание сохранило мне историю, как дед требовал денег на водку у бабки, пристрастился на фронте. Бабка уходила из избы ночевать к соседке, чтобы не давать ему денег и не трепать себе нервы, к утру дед остывал.
Соседка, к которой она уходила, имела такого же мужа… и стала моей второй бабкой. Думаю, что бабка и присмотрела мою мать во время таких ночёвок. Мать была младше отца на шесть лет, говорила, что к нему относилась, как к соседу: «У него были свои взрослые девки».
Баба Нюра рассказывала, как баба Марфа пришла свататься: «Уведёт без свадьбы, кошку из-под стола выманить нечем!». На это баба Нюра ответила достойно: «Так не уведёт, пусть сначала распишется в загсе, а свадьба мне твоя не нужна!». Так что меня придумали бабки, заключили между собой компромиссное соглашение и оказали влияние на детей. Оба деда к этому времени уже умерли. Это было бабье царство…
После загса мать ночевала дома, отец уговорил жить её вместе только через неделю. «Чёрт знает, что такое!». Может, я произвольно толкую факты, но такое «сватовство» имело для меня страннейшие последствия. Я не был ни на одной свадьбе в своей жизни, а катализатором для этой странности послужила тётя Вера – старшая сестра матери. Она вдруг не захотела, чтобы я был на свадьбе её дочери. Мне – тринадцать или четырнадцать лет. Моё сознание, видимо, нужно тренировать. У бабы Нюры «с Верой» даже спор вышел на эту тему. Когда я услышал, что не попаду на свадьбу, на которую признаться честно и не собирался, то почувствовал облегчение. Это было вообще новостью для меня, что я должен куда-то ехать, участвовать в каких-то взрослых делах своей двоюродной сестры. Когда в брак вступали другие братья и сёстры, я жил далеко от дома. Моё отсутствие на свадьбах стало традицией, но первое вино в своей жизни я выпил на свадьбе… Это была свадьба старшего брата моего друга. В её последний день уже без жениха и невесты мать посадила за стол совсем молоденьких: нас набралось человек пять или семь. Я поднёс вино к губам, будто яд и выпил, но не умер. Потом выпили по второй. Когда я встал на ноги, все души моей излучины пронзило вино «Агдам». Потом мы брали его в магазине, оно стало, почему-то, пошлый.
Кошка, которую «из-под стола выманить нечем», тоже заслуживает внимания. По словам Тамары, она пропадала целый год. Её долго искала именно Тамара; кошка была красивая: чёрная шерсть, белые кончики лапок, ушек и хвоста, на груди белая бабочка. И вот через год, когда дома у всех разболелась голова, Тамаре стало казаться, что кошка мяукает на улице. Бабка сказала деду: – Отведи ты её к доктору! Что ей всё время кажется! – И тут баба Нюра стала им стучать в окно с улицы: – Ваша кошка нашлась! – Она увидела её через окно, выходившее в бабкин двор. Кошка разбегалась и прыгала на дверь, громко мяукая. Когда баба Нюра зашла в избу, то почувствовала угар.
Мой отец в это время служил в армии, тёти Вали не было дома. Её попросили прикрыть заслонку, когда она убегала на танцы, торопясь, она сильно двинула её. На моей памяти тётя Валя с нами уже не жила. Она вышла замуж. Младшее поколение между собой тоже боролось за мнения. Мой отец мог дать подзатыльник тёте Вале… а зимой, когда дверной проём сенок заносило снегом, белая плёнка иногда набивалась до самых верхних углов. Казалось, что выхода нет. Мой папа хитростью выманивал Тамару из тёпленькой постели – посмотреть, что там собака во дворе наделала – и выкидывал её на улицу через дверь «прочистить проход». Хищная шутка заставляла Тамару визжать, но небрежное отношение к младшенькой всё равно чувствуется. В нужном случае Тамара тоже давала отпор. За неё заступался дед. Она шантажировала этим и папу, и тётю Валю.
Где же Гадкий Утёнок?
Мы с матерью идём в гости. Она не разрешает снять колючую шапку и расстегнуть тесное пальто. Я услышал в голосе непреклонную интонацию. Под пальто ещё костюм с начёсом. Его бы одного хватило для такой погоды… шапка прокалывает голову до самого черепа. Я передвигаю ноги и чувствую себя Гадким Утёнком, но оставляю намерение плакать. Мы отошли от дома на квартал, идти ещё целых три. Дома с бабкой было комфортно… но мама ласково привязалась: «Пойдём, да пойдём…». Домой бы вернуться! Я не имею права расстегнуть пальто, снять шапку, не контролирую пределы собственного тела, моя «воля к власти» ущемлена. Я запомнил этот случай, потому что тогда не заплакал.
В гостях меня раздевают, но я, по-прежнему, Гадкий Утёнок. Скоро меня снова оденут и выведут на крыльцо сфотографировать. На фотографии стоит дата. Мне, соответственно, два года, даже не три… Фотограф что-то заподозрил, во второй раз вывел меня уже без пальто и шапки. На этом снимке я прикоснулся ладошками к животу. Это – жест готовности оставаться таким, но выражение лица на снимках почти не отличается… Я уже умею скрывать свои чувства. А колючая шапка долго никуда не могла деться. Когда я учился в институте, то ходил в ней на лыжах. Она по-прежнему колола голову…
Иногда, когда мне совсем не хотелось плакать, мать тревожно говорила: «Опять ты будешь уросить?». Я обещал не «уросить», проявляя заботу о ней, но своих таких многочисленных слёз, о которых она говорит, не помню. Видимо, они снимали мне стресс и забывались. К сожалению, я не замечал, что контролирую ими мать. А в тех гостях мы бывали не раз: и всё время я чувствовал себя Гадким Утёнком. Однажды в этих гостях я принуждённо бегал с другими детьми во дворе… Меня и дочек хозяев отправили погулять. Во дворе двухэтажного дома жило много детей, но я не делал попыток с кем-то познакомиться, молча бежал, потом останавливался, это была симуляция игры… Скоро мне захотелось в сортир. Он белел в углу двора, но, казалось, в спину будут смотреть огромные глаза, если я туда побегу. Глупо больших глаз бояться и самому себя выдавать, но ничего не могу с собой поделать. Одна дочка хозяев, которой я больше доверяю, меня проводила. Внутри сортира – острый запах хлорки. Я глянул в глубокую, вонючую яму и серьёзно испугался: в ней кишели белые черви. Сюда следовало идти с мамой, но было уже поздно думать об этом… Маринка деликатно предлагает подержать меня, но я не могу позволить себе с ней такие отношения. Она мне нравится, хотя учится в школе дольше, чем я живу. После того, как я закрылся в туалете, мысль сложиться в неустойчивом равновесии над глубокой ямой с червями у меня вызывает всё равно ужас. Я выбираю не самый приличный способ действий, какаю на пол, не покидая сортира. Это можно было бы сделать и на улице, но тогда я бы светил всеми голыми частями тела при множестве народа… Через некоторое время во дворе поднимается тихих переполох. Какой-то парень ходит и задает вопросы. Я убежал за ограду и смотрю через частокол. Парень подходит к дочкам хозяев, в принципе, можно удрать и домой. Я помню дорогу: всё время прямо, пока не увижу дом, мама потом сама придёт. Кажется, Маринка не выдает. Я испытываю колебания убежать. Мы с мамой раньше так никогда не делали… Светка показывает на меня головой. Парень подходит. Я «честно» отвечаю на его вопрос: «Нет, я не какал на пол в уборной». В этот момент Гадкий Утенок распускает во мне все свои лепестки…
Кажется, я поймал его за руку! Он связан с враньём: надо только расширить понятие… Когда я иду в гости и не плачу, не стягиваю с головы шапку, я тоже вру. На самом деле, так жить нельзя! Вообще, когда мать тянет меня за руку, мне нужно в обратную сторону. Я был Гадким Утёнком и на новогоднем утреннике. Когда мать сняла с меня пальто и верхние штаны, оказался навеки опозорен. Это произошло на глазах у девочки в лёгкой, белой обуви, в таком же лёгком, белом платье и с сияющей короной на голове, в которую я сразу же безнадёжно влюбился. Она была, как светлый ангел, и смотрела своими прозрачными, большими, голубыми глазами, как раздевают меня, а мать в это время безжалостно разоблачила голую полоску тела между моими короткими штанами и чулками. Я согласился на эти чулки, потому что думал: мы снимем их, когда придём, и сделаем это незаметно. Это был жуткий компромисс с моей стороны – иметь их даже под одеждой…
Мать обещала, что снимет с меня чулки, но повела себя вероломно: «Оставайся в чулках!». – Утренник превратился в пытку. Я чувствовал себя неприлично голым из-за белой полоски тела между чулками и короткими штанами. Мне хотелось забиться в угол, стать незаметным, невидимым и плакать. Как плакать в углах больших, голых комнат, чтобы было незаметно? Поэтому я вёл себя «нормально», только прятался в толпе детей, чтобы не встречаться глазами с той девочкой, уходил за ёлку от той части зала, где, по моим расчётам, была она.
Бесконечно униженный чулками, я был ещё и сфотографирован матерью, мой позор растягивался навеки, это была последняя капля. Я наотрез хотел отказаться от фотографирования, но мог настаивать на своём, только плача. Этим бы я привлёк к себе всеобщее внимание в чулках.
Я помню, что жёстко сгорал перед фотографом: нет несчастней меня существа на свете, но, к своему удивлению, на снимке вижу доверчивые детские глаза. Грудь доверчиво подаётся вперёд, даже кривая улыбка на лице. Я – маленький и нежный – и едва ли не веселюсь! Даже открытая полоска ног между штанами и чулками не портит этого малыша. Светло-жёлтая рубаха, крест-накрест опоясанная лямками штанов, и её кроткие рукава, свисающие до локтей, тоже своей бесформенностью доставляла мне острое чувство, но сейчас, глядя на этот снимок, мне кажется, что всё нормально. Я бы мог не прятаться за ёлкой, бегать где-то рядом с девочкой в сверкающей короне и встречаться глазами. На мне бы болталась жёлтая рубаха, зажатая лямками. Это я мог терпеть. Только не должно было быть чулок… Я мог сказать девочке что-нибудь. Это был бы фантастический флирт.
На ёлке было несколько «снежинок». Одна, хоть и не та, попала на мой снимок. Соски под платьицем, мягкости на ногах, чёрные волосы под белой короной – вот кому хотелось сфотографироваться.
Чаще всего мне приходится «врать», что всё нормально, когда я с мамой иду в детский садик. Я хочу носить шарф под пальто, как взрослые, но это невозможно доказать матери, даже невозможно доказать, что узел сзади совсем не теплее. Он завязан так, что мне не доступен, и всякий раз в детский сад шагает Гадкий Утёнок? Откуда взялась эта система терпения? Почему на фотографии, где папа, мама и я, – я испуганно тянусь к маминой груди и ничего ещё не умею «терпеть», а на снимке, где мне всего два года, я уже – Гадкий Утёнок? Что определило меня за промежуток времени, который не может быть длинным?
Мама ласково уговаривает пойти с ней на улицу. Её аргумент: на улице тепло и легко дышится, но мне и в избе легко дышится. По вынужденному поводу я ещё плохо подбираю слова. Их трудно измышлять для отказа, тем более, что мамина ласковость требует какого-то соответствия. Я поддаюсь на уговоры… Мама натягивает на меня тяжёлое пальто, валенки, шапку, шарф завязывает сзади… Я оказываюсь в солнечный мартовский денёк во дворе, который завален сплошным сугробом, по которому тянется тропинка в огород… Воздух всё равно холодно касается щёк, никакой он не тёплый. Я могу пойти по тропинке, больше всё равно идти некуда, но всё, что требует движений, вызывает у меня апатию. В демисезонном, лёгком пальто мама отбрасывает маленькой штыковой лопатой снег от сенок. Вместо шали у неё на голове – платок. Она смотрит на меня и всё время улыбается.
Я вижу единственный выход из положения и говорю: «Возьми меня на ручки!». – Моё лицо будет рядом с её лицом. Так теплее, и не таким тяжёлым покажется пальто. Тоненькое лицо мамы, как на фотографии, смотрит на меня с недоумением. Она отказывается. Я сразу же понимаю, что просить бесполезно, замираю на тропинке. Но щёки от холода не спрячешь. Мои отношения с мамой замерзают на этом весеннем ветерке…
Однажды мы с Петькой поиграли как-то не так. Был тёплый майский денёк, я гонялся за Петькой во дворе детского сада, он убегал и хихикал. Мы совсем не понимали, что нам говорит воспитательница. Она была новая, но угрозу в её словах я заметил. Спокойным тоном воспитательница пообещала всё рассказать матери. Я даже не понял, что она расскажет, интонацию по верхнему, спокойному тону «считал». Мы ровным счётом ничего и не делали, только радовались жизни… Воспитательница, зачем-то, сдержала слово. По дороге домой мать стала талдычить мне то же самое.
То, что нам вменялось, было неправдой: не было у нас намерений. Я надеялся, что мать это понимает, не хотел объяснять пустяки и совсем не оправдывался: слушал её с досадой и без страха. Тогда мать несколько раз объявила, что не будет молчать. Она всё расскажет отцу. Я опять не понял, что она расскажет? Отец всё время выпадал из моделируемой мной ситуации. Он не наказывал меня. Я даже не представлял, что он может мне сделать. Но дома могли слушать пустые выдумки про меня бабка и Тамара. Мне этого не хотелось. Где им ещё быть, если не дома… баба Марфа меня не наказывала, я мельком подумал о Тамаре. Это было вообще смешно. Тем не менее, по словам матери выходило, что дома меня ждёт злейшая опасность. В очередной раз она сказала, что не будет молчать. Я уже отчаялся объяснять ей, что этого не надо делать, слёзы хлынули из меня: «Не рассказывай!».
Я немедленно оценил эти слёзы, добавил к ним нужную интонацию: «Видишь, я раскаялся!». Моё отчаяние немедленно стало расчётливым. Интересно, что в тот раз я не чувствовал себя Гадким Утёнком. Внутренне я остался наглым и циничным. Эти слёзы я, почему-то, запомнил.
Каким-то детским голосом мать стала говорить, что она и так всё время молчит. А мне всё сходит с рук, но эта клевета уже звучала, как жалоба. В её голосе изменилась интонация… Я немедленно успокоился. Слёзы, которые я запомнил, не снимали мне стресс. Его и не было. Какая-то внутренняя активность была в тот момент, по сути, тоже стрессовая, но что-то тут тонко запутано… Кажется, я врал матери, но не врал себе. Когда я чувствую себя Гадким Утёнком, то, видимо, вру себе. Колючую шапку нельзя терпеть, а я иду и запутываю себя, выношу колючки. Я всегда мог что-то делать и быть более активным: не говорить с парнем, например, удрать дальше по дороге, вообще уйти домой…
Зато теперь, задним числом, я понял, о чём у матери шла речь: в её семейных разговорах стало больше молчания.
Как-то к нам в гости пришла крёстная отца – тётя Таня. Она любила выпить, и отец с ней выпил. Мне запомнилось, как тётя Таня сидит в кухне за столом, за которым бабка готовит, обстановка – самая неофициальная. Вдруг разговор сделался каким-то напряжённым, тётя Таня оборачивается к кому-то у себя за спиной, отвечает со сжатыми губами. Отца где-то нет. Бабка сидит рядом на кровати, оборачиваться так к бабке не было бы нужды у тёти Тани. Видимо, за спиной у неё моя мать выражает претензии по поводу спаивания мужа. Моё внимание в тот момент направлено на тётю Таню, я не помню матери. Кажется, всё-таки она там стояла.
Скоро тётя Таня исчезает из гостей, а вернувшийся в избу отец вдруг сделался пьяным, разъярённо ломает стол в комнате. Верхняя доска, которую он оторвал, покрылась мелкими, щучьими зубьями гвоздей. Там, где он его крушит, вспыхнул, будто, электрический свет, несётся визг гвоздей вместе с ярчайшей руганью… Мы с матерью спешно покидаем избу.
Баба Нюра постелила нам толстый, мягкий матрас на полу. Возможно, это была перина. По крайней мере, мне понравилось на этом матрасе спать. Сумрак и тишина тоже понравились, я выражаю мысль жить здесь. Мать молчит в ответ. Баба Нюра тоже не поддержала разговор… Когда за окном засерел свет, ставень от стука неприятно задребезжал. Баба Нюра уверена, что это пришёл отец. Я, почему-то, думаю, что он не мог прийти. Мы от него убежали, больше не будем видеться. К моему удивлению, мать выходит на стук, бубнит с кем-то на крыльце…
Через некоторое время я водворён в избу. Матери где-то нет… Отец чинит стол, бабка качает на него головой, папа не огрызается, свесил свою голову… Я тоже качаю на него головой, одновременно про себя изумляясь, что он умеет делать столы.
Если бабка в схватках с дедом возвращалась в избу победительницей, то мать вернулась проигравшей. Не смотря на извинения, принесённые отцом, ей в дальнейшем пришлось «фильтровать базар», и наступило «молчание». Когда отец строил дом, она предлагала сделать разрыв между избой и новым домом, но её никто не слушал. В результате по документам получилась пристройка, после смерти отца мы жили в ней с матерью, но официально она принадлежала бабе Марфе. Благодаря этому мать получила сначала комнату, а через несколько лет квартиру. Так её «молчание» оказалось судьбоносным. А толчком «к судьбе» послужила крёстная отца, любившая выпить.
Крёстные вообще почитались в родне отца. Баба Марфа многократно мне подчёркивала, что Тамара – моя крёстная, дядя Толя – крёстный. На самом деле, у меня даже три крёстных. В церковь ходила ещё одна моя тётя. Они с Тамарой были соседки и подружки. Мои молоденькие тётки делили обязанности, держали меня по очереди на руках, а брат матери – дядя Толя –нёс меня в церковь, поход, почему-то, возглавляла баба Нюра, а не баба Марфа, настоявшая на крещении… Когда дом был построен, крёстная отца выступила с речью, её слушал я и кто-то ещё… Тётя Таня рассказала, что перед тем, как селиться в новом доме, туда нужно запустить на ночь собаку, кошку и петуха, не кормленных три дня. Если к утру сдохнет петух, жить в доме можно. Если сдохнет кошка или собака, жить, кажется, было нельзя, в доме будет покойник… Выслушав её, я не понял, почему животные не могут выжить все сразу, и представить себе, что в новом доме не жить, тоже не смог… Отец погиб почти сразу, как расставили вещи, поехал в командировку на уборку урожая… Перед отъездом он видел сон, как упал с моста в реку с машиной. Так и случилось. Когда его привезли домой, мать сказала, чтобы я ночевал у бабы Марфы. Самой бабы Марфы где-то не было, я спал один на её широкой кровати и прекрасно выспался, утром по приказу матери пошёл в наш дом. Баба Марфа сидела у гроба… Этот гроб смутил меня. Почему отец лежал не на кровати? Я ощутил что-то серьёзное, но с закрытыми глазами он от себя ничем не отличался. Я, на всякий случай, поинтересовался у бабы Марфы, когда он встанет. Её морщинки стали мокрыми: «Он не встанет». На следующий вопрос она ответила после длинной паузы, по её словам, его было бесполезно щекотить. Я не поверил, но развивать тему не стал. Я проявил осторожность, хотя не боялся говорить с бабой Марфой на любые темы. Она сидела у гроба какая-то одинокая и несчастная. Я побыл с ней немного и пошёл на улицу, где встретил Любку…
Самыми весёлыми в тот день были музыканты в нашем дворе. С ними там стало тесно, нас, оказывается, знало много народу. Некоторое время отца несли по улице, потом повезли на машине. Я ехал со всеми в автобусе. Помню, как баба Марфа рыдала в открытую могилу, стоя на коленях. Рядом голосили тётки отца. Наверное, не было на свете таких печальных похорон… Позже тётки отца зачастили к нам, гладили меня по головке и называли сироткой. Это слово мне не понравилось. Я отверг его, как программу: с тех пор тётки отца стали для меня какими-то неприятными знакомыми, и на всю жизнь наше знакомство осталось поверхностным.
Видимо, система уважения досталась бабке в наследство. Я сужу об этом по её семейному преданию… Что-то много сестёр было у бабки. Ещё было у них девятнадцать коров, двенадцать лошадей, тьма овец, и что-то не считано… «Работали всей семьёй, никого не нанимали», – сказала бабка. Я запомнил, но мысли у меня тогда разбежались. Мой прадед был кулаком: то ли мне – пионеру – стыдно стало, то ли наоборот… Чтобы дочери не убегали на гулянье к парням, отец запирал их на ночь то ли в овине, то ли в амбаре. Одна из них – Дунька – подставляла к стене этой тюрьмы оглоблю и то ли вылазила из овина, то ли перелазила через овин… Бабка сказала: «Отец бы её убил, если б узнал!». Выцветшие глаза зажглись на морщинистом лице. Я заподозрил, что она сама хотела убегать на гулянье к парням, но, казалось, всё было так давно, что не имело смысла и спрашивать, ещё, казалось, что бабка что-то не договаривает про Дуньку… Потом она сама родила такую же «Дуньку», только её звали тётя Валя…
Хоть и не убегала бабка из овина, но тоже была не промах. У какого-то жениха закапали слёзы «возле налоя». Имя этого жениха бабка произносила сладко: «Ванюшка». Он был сначала бабкин жених; дело разладилось у них из-за какого-то простенького разговорца. Казалось, в результате слов этого разговорца можно только крепче обняться. Бабка припоминала самые мирные интонации, но как-то складывалось впечатление, что она сама и виновата… После их ссоры родители решили женить Ванюшку. Венчание шло в церкви. Церковь в словах бабки всплыла вместо загса. По её словам, туда набилась вся деревня. Сама бабка сидела дома, но какая-то красивая, толстогубая подруга в красных бусах пришла и стала уговаривать: «Пойдём Марфуня, посмотрим свадьбу!», – Бабка сначала не хотела, но подруга пела и пела. И бабка пошла, сквозь толпу протиснулась первый ряд. Поп в это время водил молодых вокруг «налоя». У жениха закапали слёзы. Сестра жениха бросилась бабке на шею и заголосила: «Марфуня, что же ты наделала!».
Я представил, как моя морщинистая бабка проходит в первый ряд сквозь жиденькую толпу, какую я всегда видел в церкви… На меня это никакого впечатления не произвело. Ванюшку всё равно было жалко.
Потом я немного одумался. Его существование даже вызвало у меня досаду. Он мог стать бабкиным мужем, у них были бы другие дети. Моего отца уже не было, без тёти Вали можно было обойтись, но Тамара ничего не говорила, не улыбаясь, Тамару было жалко. Моё существование тоже стояло под вопросом. Я подозрительно покосился на бабку:
– А где был дед?
Дед был из другой деревни. Бабка его никогда не видела. Её сосватал какой-то старик, который слыл колдуном, остановил возле курятника (я сообразил, что это не тот курятник, который я знаю), дёрнул за косу «до трёх раз»: «Пойдёшь за Михаила?». Припоминая свой ответ, бабка выпучила глаза, как шестнадцатилетняя: «Понравится, так пойду!».
Вдруг бабка обратила внимание на меня: «А ведь ты не будешь ко мне на могилки ходить». Я удивился. Казалось, такая наша жизнь никогда не кончится, всё-таки решил не противоречить так сложно:
– Буду ходить!
– Нет, не будешь…
Бабка оказалась права. Я не был на её похоронах, жил в другом городе, «на могилках» был тоже считанные разы, если Тамара не отведёт, не найду.
На самом деле, это бабка, а не Любка, первой сказала, что я пригожий, но тогда информация шла в контексте, и я пропустил её мимо ушей.
Сначала бабка тащила меня за руку через дорогу, чтобы я поиграл с соседской девчонкой, а сама хотела посидеть с её бабкой на солнышке. Я упирался от стыда. На следующий день уже сам тянул бабку за руку через дорогу, и она решила охладить мой любовный пыл: «Людка старей тебя на год, у неё рот, как куриная гузка, а ты – мальчик пригожий». Эти слова были направлены против моего желания играть с Людкой, и я пропустил их мимо ушей.
Кстати, в детстве Людка была миленькой девочкой. Верхняя толстая губка её даже украшала, и мать Людки – симпатичная женщина, бабка –красивая, увядшая старуха. Моя бабка в курсе про толстые губы: подруга в красных бусах у неё – красивая. Почему прогноз о Людке оказался точным? Я встретил взрослую Людку: лиловое лицо покрыто прыщами или угрями, верхняя толстая губа подчёркивает сжатость нижней, запирающей лицо на замок. Умела бабка «вспоминать» будущее. Я догадываюсь, как она могла предвидеть «могилки». Это для меня просто грядки, а для неё «могилки» имели смысл. Невнимательность при жизни – невнимательность после смерти. Прозорливость по поводу могилок можно переоценить. Но как предвидеть Людку?
В то же самое время я сам сделал что-то подобное однажды. Первого сентября после линейки мы набивали коридор школы тесным строем: в этой публичности Хлеба громко и демонстративно попросил у технички закурить. Я понял, как он будет жить, как именно для него всё кончится, это каким-то образом было в интонации его голоса… Хлеба был умней меня, он обладал профессиональной выдержкой при игре в карты, сравнивая себя с ним, я всегда испытывал комплекс неполноценности, но свернуть с прямой линии воспринятого мной смысла его жизни он не смог. Представление этого пути было тоже за пределами моего опыта, но каким-то простым образом в него входило… Ещё фантастичней был случай, когда я, лежа на бабкиной кровати и роясь в памяти, не нашёл эпизодов, где я взрослый. Это был непорядок. Я совершил усилие на собой и вспомнил себя взрослым: увидел, как вылажу из автобуса в клетчатой красной рубахе, раздражённый давкой. Это было в самой дальней точке известного мне на тот момент мира. Бабка туда возила пару раз. Мы выходили на узкую обочину и шли по какой-то грязи в гости к тётке отца.
Моя детская грудь в общественном транспорте всегда находилась на уровне поясов, мне никогда не было тесно ни в какой давке, не было у меня опыта такого раздражения. Когда я вылез на асфальтовый широкий тротуар, детей рядом нет, чтобы сравнить с ними свои размеры, а взрослые где-то далеко. Таких широких тротуаров, как дорога, я в своей жизни ещё не видел. Выбравшись из автобуса, я двинулся в ту сторону, куда шёл автобус. Будто, мне и пойти больше некуда. Это меня встревожило. Автобус шёл в сторону заводов. Я показался себе работягой и глянул на свои ладони. Линии на них не были пропитаны мазутом, казались белыми, но воздух, которым я дышал, будто, содержал густую пыль и нестерпимо резал лёгкие. Я осмотрелся: в видении воздух был прозрачным, небо – чистым и голубеньким до самого горизонта, но, почему-то, я мог дышать только верхушками лёгких: остро чувствовался недостаток кислорода… Воздух избы рядом со мной был темнее и казался грязнее, но им я только что дышал совершенно легко, а в видении – только с резью в лёгких и только короткими вдохами. Предо мной встал выбор, чем дышать, воздухом избы или тем, что в видении? Тут меня осенило, что я не помню себя взрослым, потому что никогда им не был.
Я перестал косить глазами в картинку, выбрал дышать воздухом избы. Моё дыхание опять сделалось незаметным и лёгким… Потом почти всю жизнь я прожил рядом с тем местом, где «вылез» из автобуса. Там – широкий асфальтовый тротуар, но такие автобусы, как вид транспорта, исчезли. Все автобусы стали другими уже два или три раза. Так что фантазия о себе взрослом использовала детский опыт. В моём паспорте вклеена фотография, где я в клетчатой рубахе… Паспорт с фотографией в костюмчике я потерял, сфотографировался кое-как, спешно получая новый. Клетчатая рубаха, хоть и не красная, но красная была до неё, тётя Валя подарила. Рубаха подошла мне, как вторая кожа, я износил её до дыр, потом сам купил вторую вдогонку, но продлить удовольствие не удалось. Она была, скорее, зелёная, жёсткая, как джинсы, с клёпками вместо пуговиц, настолько же мне посторонняя, насколько первая была личной. На паспорте, кстати, я выгляжу как работяга… Видение использовало известные мне элементы настоящего, где я миленький, как использовало известный мне автобус, но кое-что было из будущего.
Как-то дома появилась азбука с отличнейшими картинками, я много раз рассматривал их. Мы жили уже в новом доме среди не распределившихся по местам вещей, но без отца. Мать тянула с первым занятием. Я подтолкнул её.
Мы начали изучать азбуку, почему-то, не с первой страницы, а с той, где в деревянной клетке сидели два зайчика. Рядом была нарисована такая же клетка, где сидел один зайчик. Второй был нарисован за клеткой. Мама стала меня учить: «В клетке сидят два кролика. Один убежал. Что нужно сделать?». Я даже не стал выяснять, почему это кролики, а не зайчики, мне хотелось поощрить маму быстрым ответом: «Нужно его поймать и посадить обратно!». Мама, почему-то, опускает руки: «Тебя рано учить…». Я не понимаю, в чём дело? Оказывается, нужно было от двух отнять один… Услышав это, я был в недоумении: это никак не вязалось с обучением чему-то неизвестному.
Последовательный счёт до десяти кто-то рассказал мне без мамы. Помнится, мы стояли с этим кем-то постарше меня в ограде. После десяти всё повторялось самым прозрачным образом. Так что считать я мог, пока не надоест. Ещё до всякого счёта мне известно, что восемнадцать копеек больше, чем шестнадцать копеек, на две копейки… Как бывшая колхозница, бабка получала пособие за потерю кормильца и из «пензии», если говорила о ней, строго упоминала все свои копейки: двадцать семь рублей и 29 копеек. Никаким своим богатством бабка не брезговала, она даже слыла скупой, но в её скупости была одна прореха: если я сопровождал её в магазин, где она покупала кирпич хлеба за 16 копеек, то по своей инициативе она брала мне ромовую бабу за 18 копеек. Я заметил, что маленькая ромовая баба стоит, как бы, много денег, спросил у неё: она подтвердила, что больше на две копейки.
Ромовая баба начинала быть вкусной снизу, я и начинал есть её снизу, но, добравшись до сухого верха, тоже съедал. Скоро я полюбил ромовые бабы.
Самым большим сокровищем в то время у меня были 85 копеек. Я копил деньги, чтобы купить себе конфет. Мне совсем не нравились самые дешёвые конфеты за один рубль, но это был нижний порог цен. И копить нужно было ещё долго. Накопленные деньги хранились у крыльца под железякой, на которой лежала тряпка, чтобы вытирать ноги… Однажды я нашёл в траве стёртый большой пятак, сбегал в свою сокровищницу и снова побежал искать, но денег в траве больше не было. Я вернулся сосчитать то, что уже накопил, хоть и так помнил… но под железякой денег не оказалось. Их серебристая горсть только что лежала здесь. Я бы утерпел плакать, но всё случилось так быстро… Мой громкий рёв привлёк внимание матери. Мне пришлось ей рассказать про деньги. Она вдруг сообщила, что нашла их.
Моё сознание немного просветлело. Кажется, только моя тайна пострадала. Мать, зачем-то, подняла железяку, когда мыла крыльцо. Недавно бабка жаловалась, что потеряла какие-то деньги. Мать отдала их ей. Мои слёзы вернули всё на место, но желание копить деньги пропало. Я истратил восемьдесят пять копеек, наверное, на ромовые бабы, а самостоятельная покупка конфет осталась недосягаемой мечтой, но дядя Толя, который был крёстным (вообще-то у меня три дяди Толи), вдруг попросил проводить его однажды до трамвая. Я принял за чистую монету этот первый предлог в своей жизни. По дороге дядя Толя стал рассказывать про человека, который копил деньги… накопил много, но потом умер, не успев их истратить. Явно концовка истории имела назидательный характер. Я понял, что мать гонит волну, но пример мне не подходил: умирать я не собирался. Деньги копить, кстати, тоже, но об этом было скучно рассказывать.
– Зачем тебе деньги? – прямо спросил дядя Толя. Вопрос был довольно нелепый.
Я не стал вдаваться в абстрактную сторону дела, дал краткий ответ, что хочу купить конфет. Дядя Толя нашёл проблему пустяковой, вытащил из кармана сорок копеек и протянул мне с неожиданными словами: «Иди, купи себе конфет каких-нибудь хороших!», – как раз в это время мы проходили мимо магазина на Пятом. Я понял, что проводы до трамвая прерываются, с сожалением посмотрел на деньги. Они были неплохие. Не понимая, почему он сам не знает, и, вынужденно отказываясь от денег, я сказал про рубль за самые дешёвые. Услышав меня, он удивлённо перебил: «Да ты не умеешь покупать! Зачем тебе килограмм?! (Я начал что-то понимать). Купи себе сто грамм! Пойдём!». В магазине он сам купил дорогих конфет, и продавщица безропотно отвесила их достаточно много на сорок копеек. С тех пор я умею покупать не только ромовые бабы. Крёстный отец сыграл свою роль в расширении моих возможностей.
Крёстные матери тоже сделают это, но будут орудиями более дальнего прицела… Несколько раз бабка выговаривала тёте Вале, что Серёжка у неё не крещённый. Бедная тётя Валя, как она хотела этого, когда было поздно, когда уже не крестят мёртвых.
Дядя Толя Лузин однажды заметил моё существование. Он казался особенно злым по сравнению с собой обычным, но, как на грех, нуждался в помощнике. Бабка что-то не спешила меня спасать… Она была с Лузиным всегда не согласна. Тамара тоже не проронила ни слова. Я смирился…
Когда я мысленно выбирал себе «любимого дядю», вопрос о рейтинге Лузина вообще не стоял, сразу двинулся в самый конец списка и прочно там укрепился. Первое место тогда держал дядя Ваня, правда, я оговаривал с собой, что это не из-за меркантильных соображений. Дядя Ваня был мужем тёти Веры и всякий раз, когда меня видел, дарил железный рубль с Лениным или солдатом-Освободителем. Эти рубли возникали у него из кармана, как ненужные вещицы, в конце концов, дядя Ваня поразил мне воображение. Кажется, это началось после истории с накоплением мной денег, но я тогда связи не заметил, сама тётя Вера сделала такой же жест, как дядя Толя, но без всяких выдумок проводить её до трамвая, пригласила сходить с ней на Пятый и купила мне шоколадку. По дороге назад ещё удивлялась, что я ем шоколад без смака, как картошку. Они себе вообразили, что я завишу от сладкого. По идее, на шоколадке всё должно было закончиться, но не закончилось для дяди Вани. Я же был сироткой. Во время семейных праздников сиротка крутился во дворе бабы Нюры возле взрослых, оказывался возле всех, в том числе, и возле дяди Вани…
Итак, Лузин схватил деталь мотоцикла, которую я раньше никогда не видел, с намерением её разобрать вместе со мной. Это был какой-то якорь.
– Все хотят газовать, – ругал меня Лузин, – никто не хочет копаться в моторе! – Это была неправда. Я никогда не хотел газовать. Он сам доводил свой мотоцикл регулярным газованием до пронзительного визга во дворе. Слова отражали какую-то реальность, но меня она не касались. Система уважения не позволяла мне возмущённо перебить Лузина. Я оглянулся на бабку: Она слушала Лузина с каким-то одобрением. Тамара тоже слушала… Они, казалось, держали в голове какую-то мысль… Вообще-то, мнение о Лузине у нас у всех было одинаковым. Он слыл бешеным пьяницей и не только газовал своим мотоциклом во дворе, но и носился на нём под сто сорок по городу. Моей матери случилось однажды прокатиться с ним. Она запоминали на всю жизнь свой ужас. Валерка Спирин тоже запомнил… Но мнение о Лузине я черпал, главным образом, из мнений бабки. Он не сходил у неё с языка. Всё в этих мнениях было понятным: не понятно только, зачем терпеть этого Лузина?
К счастью, он не стал проверять, хватит ли у меня сил открутить винты на якоре, сам открутил, резко бросая на табуретку и вставляя в процесс обучения мат, который касался, скорее, винтов. Всё остальное с якорем он тоже проделал сам. Я добросовестно пытался вникнуть в смысл якоря, но не вник… Он, к счастью, и не проверял. Скоро ему пришло в голову бросить на табуретке разобранный якорь. Мы пошли во двор газовать. Я ждал, когда всё кончится, но мне пришлось держать ручку газа и время от времени я получал удовольствие оттого, что мотоцикл визжит по моей воле. Наконец, тётя Эля стала ругаться на нас в окно, выходившее в бабкин двор. Мы могли разбудить спящую Гальку – мою двоюродную сестру. Я перестал газовать и смылся… К моему удивлению, Лузин не смотря на вечную готовность совершить какой-нибудь вредный поступок, не стал раздувать скандал. Мотор в ограде больше не взревел. В дальнейшем с обучением он ко мне тоже не лез…
Я думаю, что это бабка и подстрекнула его. Она заботилась обо мне, а обучение понимала по-старинке – в социальной среде. Мы с Лузиным, как два дурака, оказались жертвами женского коварства… Бабка и сама пыталась меня чему-то учить периодически и говорила на довольно абстрактные темы, но потом делала вывод: «Ты ещё глупой». От меня быстро отстали и прочие родственники, вроде тёти Вали. Преимущество сироты свалилось на меня, как благодать. Я довольно рано осознал счастье быть предоставленным самому себе.
Для человека, обладающего способностью видеть будущее, бабка как-то странно распорядилась своей судьбой. Дед, которого она побеждала то и дело, экономя рубли, рано умер. А проигрывал он ей поневоле, вообще-то, слюнтяем не слыл, бежал из немецкого плена с группой товарищей. Немцы их поймали и сказали: «Расстреляем в следующий раз». В следующий раз он бежал удачно, но по ехидству судьбы оставил одну хорошо бегающую ногу потом в медсанбате, видимо, получил от судьбы, новое задание, сдав экзамен с ногами. С ним он тоже справился. Оказался лёгким на подъём и перевёз всю семью в город, поссорившись с председателем колхоза. Ссора у них возникла из-за моего шестнадцатилетнего отца. Председатель послал его грузить какие-то мешки по 80 килограмм. Дед сказал отцу: «Сиди дома!», – а с председателем у них состоялся примерно такой разговор:
– Пошли его учиться на шофёра!
– Пусть работает конюхом.
– Пусть твой сын работает конюхом.
Дед выхлопотал паспорта в районе и перевёз семью в город. Отец стал шофёром, даже женился на дочери шофёра, в то время это было чем-то вроде космонавта…
Как инвалид войны, дед имел льготы, на нашей улице жил точно такой же инвалид без ноги, его даже звали, как моего деда, и у него была сначала «инвалидка», потом «запорожец». То же самое касалось моего деда. Судьба бабки могла сложиться иначе, правда, мои родители, возможно, так и остались бы соседями, зато моя неграмотная бабка могла жить бы, как советский комильфо, и съездить в деревню на «Запорожце» «поздоровкаться» с председателем. Петька бы (мой отец) отвёз. Но сложилось так, как сложилось…
Это сначала моя мать искала другой садик и отдавала меня крестить в церковь. Потом возникла фронда, и такое небрежное отношение к бабке казалось мне естественным. Я не понимал, что она извлечена из среды обитания, что жизнь её «сокрушила». Этот дом был только мне родным, а её дом был там, где она – шестнадцатилетней – идёт по улице, а соседи из окошек выглядывают: «Вон Марфа, какая красивая, идёт».
В глубине души, где человек всегда один, бабка была обижена на мужскую половину рода: «Привезли меня сюда, а сами ушли на пески».
Иногда я задумывался, кем стану? Сначала не ломая голову, я хотел быть инженером, как дядя Толя. Мне даже не приходилось выбирать, какой из них: оба брата матери были дяди Толи и оба – инженеры. Кажется, баба Нюра этим гордилась, мать тоже ничего против инженеров не имела, как, впрочем, и против генералов. Однажды я сказал ей, что не хочу быть генералом, она возразила: «Ну, что ты! Генерал – это хорошо. Соседи скажут: сын Риммы – генерал!». Через какое-то время я захотел что-то собственное придумать вместо инженера и придумал стать писателем. Эти планы были на будущее, ни к чему прямо сейчас меня не обязывали: придумал я осенью, когда учился, а летом на солнышке во дворе, крутя колесо велосипеда, лежащего на боку, и представляя себя водителем автобуса, вдруг почувствовал озабоченность: «Мне уже десять лет, а ещё ничего не написано».
Я покинул солнечный двор. Карандаш и тетрадный листок украсили бабкину кухонную клеёнку. Ручки летом не нашлось… Карандаш выдавливал на листке шероховатости клеёнки. Я написал корявым подчерком, хуже, чем умел: «Жил-был мальчик». Его ноги сами пошли в сторону Пятого, в каждом шаге отзывались волшебные фантазии, на плечах сидела голова, полная приключений. Следующая фраза уже готова была написаться: «Он пошёл на Пятый», – но я задумался, как лучше выразить мысль: «Он пошёл на Пятый, или он пошёл в магазин». И так, и этак на письме получалось повествование о внешней стороне жизни, более унылой, чем на самом деле. Ещё следовало придумать мальчику имя. Это вообще поставило меня в тупик. Никакое имя, кроме моего собственного, мальчику не подходило. Мои фантазии сразу пустели. Какое-то время промучившись над вопросом, как записывать фантазии, у которых ни начала, ни конца, я отложил проблему. В кухне было тенисто. Я вернулся крутить колесо на солнечный двор, и писатель во мне уснул на много лет. Я ещё раз накачивал себя мыслями о нём, когда мне было пятнадцать лет, но устно, ничего не записывая. Мне хотелось научить «этих дураков» всё правильно понимать. В девятнадцать лет была ещё попытка… Она стала значимой, благодаря фразе: «Она надела очки…». Я записал эту незначительную фразу, как некую банальность, но потом оказалось, что это единственное, что я сам понимаю, не напрягая извилин и памяти, случайно я её дописал: «чтобы лучше меня видеть», – и опьянел. Я различал нижнюю строчку в таблице окулиста, когда мне показывали на две строчки выше, и сначала думал, что девушка просто так надела очки, для красоты. Но для этого у неё оказались основания! На кончике моей шариковой ручки было больше смысла, чем у меня самого.
Эти воспоминания уже не приводят к более фундаментальному выводу, чем тот, что был сделан относительно чувствительности к интонации. Моё восприятие начинает наполняться смыслом, и формируется общее со всеми сознание на её основе интонации. Со временем этот процесс выглядит только запутанней…
Посмотрим на моё сознание ещё раз. Мне два года. Я шагаю в гости с мамой и испытываю колебание: «плакать – не плакать». Тесное пальто не даёт дышать, шапка прокалывает голову. В отказе матери снять их с меня– категорическая интонация. Смысл интонации отражён моим недавно народившимся сознанием и адекватен действительности. Я помню, что решил не плакать. Мой анализирующий центр решил так. Из чего он исходит? Из интонации мамы или из себя самого?
Интонация – это внешнее. Сам центр восприятия, вроде бы, – внутреннее. Если я буду плакать, иголки шапки вопьются уже в мокрую голову, после этого вообще не сдвинутся с места, тесная одежда прилипнет к мокрому телу. Мне станет тяжелей двигаться и тяжелей дышать, к тому же вся сила уйдёт в плач, а надо идти, мать тянет меня за руку. Если я буду плакать, мне станет трудней двигать ногами. Я без слёз делаю шаг, потом следующий. «Не шевелить головой, чтобы шапка не прокалывала голову!». По возможности, не забывать об этом.
Мой воспринимающий цент отражает и интонацию маминого голоса, и собственные ощущения. Внешнее и внутреннее для него по какую-то одну сторону. Как такое может быть? Есть ли что-то ещё более внутреннее, чем внутренние ощущения? Да, это – мой опыт. Он – и внутреннее, и не внешнее. Предназначение опыта – опережающе отражать действительность. Мамина интонация позволяет мне это делать. Мой воспринимающий центр обо всех последствиях выбора плакать тоже осведомлён на собственном опыте. Ему известны реакции тела и вероятные мамины действия… Я делаю выбор не плакать, после этого чувствую себя Гадким Утёнком, но мой выбор – не делать себе хуже собственными слезами, собственными же руками.
Возможно, этот выбор не идеален, но мой опыт так заточен. Что его заточило – мой темперамент или воспитание? Внутренние ощущения и интонация маминого голоса наделены смыслом. Опыт вытягивает внешние и внутренние смыслы в определённость стратегии для себя. На фотографии, где «папа, мама и я», – я ещё не умею говорить, но уже умею отчаиваться. Это – собственная природа моего воспринимающего центра, но шагая с мамой, я уже не отчаиваюсь. Вернее, я не плачу, но чувствую себя Гадким Утёнком. Собственная природа центра начинает трансформироваться. Мой воспринимающий центр, чья природа отчаиваться, изменил её на какую-то другую.
Я даже смутно припоминаю, что там было, когда делали фотографию, где папа, мама и я, где природа моего воспринимающего центра существует ещё до Гадкого Утёнка… Мне кажется, что мы идём в больницу. Мама всегда говорит, что больно не будет. Так, что я ей не доверяю, но сегодня она добавила, что с нами идет папа. Он, действительно, не ходит с нами в больницу.
Всё же в очереди я сидел, как на иголках. Мы вошли. Под потолком – темно. Сбоку – яркий свет. Белые ширмы скрывают что-то. Кажется, что это – самая страшная больница! Я готов паниковать, но меня сбивает с толку, что на докторе с бородкой нет белого халата… Мы садимся на стулья. Ни папу, ни маму белая ширма за спиной не волнует, дядя с бородкой не просит снять с меня одежду… окружающее всё равно таит в себе что-то. За боковой ширмой ободранный стул, но ширма за спиной непроглядна. Дядя с бородкой вроде добр, ещё бы разрешил за ширму заглянуть… Кажется, моего раздевания не будет, но внимание привлекают к какому-то ящику. Я сначала его и не заметил. Дядя сказал, что оттуда вылетит птичка, добавил, что её надо ловить. Я не заинтересован. Мама тоже сказала, что надо ловить птичку. Мне не жалко, пусть бы птичка летала. Почему заботу о ней взвалили на меня? Нужно теперь быть внимательным и караулить птичку… Она кажется мне деревянной, как этот ящик. В моём воображении птичка выскочила из него, щебечет и порхает. У неё длинный, деревянный клювик, который быстро стучит о ящик. Сама птичка – тоже быстрая. Как её ловить? Я – неуклюжий, к тому же должен сидеть неподвижно. Я решил, что буду ловить её, спустя рукава, но тут у меня возникают опасения. Кожа рук голая, лицо ничем не защищено. Птичка сама может меня клюнуть, чего доброго, от неё ещё надо будет отбиваться… В режиме опережающего отражения действительности я тянусь к маминой груди за защитой. Этот момент запечатлела фотография: с ящика я не свожу глаза, как и велено…
Потом мы встаём и уходим. Птичку с острым клювиком не удалось увидеть. Я чувствую какое-то сомнение, что она вообще была…
Эти воспоминания, оказывается, хранились! Казалось, их никогда не было. Фотография среди других фотографий у бабы Марфы на стене удивляла меня с самого детства: «Неужели это я такой маленький и толсты между мамой и папой?». Больше было некому быть, но между этим снимком и мной бежала трещина беспамятства… Одна фотостудия в городе регулярно погружала меня в глубокие раздумья. Поворот в одну сторону погружал, а в другую – нет: я точно знал, что это не туда. А в нужную сторону среди ширм, стульев и игрушек для детей всегда в последнюю очередь я находил глазами деревянную камеру на треноге. Она казалась мне, почему-то, в три раза меньше, чем должна быть. В этой студии работал приятель. Он ничего не знал про такие большие камеры, говорил: «Всегда такие были». Никто не помнил и фотографа с бородкой.
Андрей Белый в романе «Петербург» выразил поиски души вполне понятно: «Сознание Николая Аполлоновича тщетно тщилось светить: оно не светило, как была ужасная темнота, так темнота и осталась… Стаи мыслей слетели от центра сознания, будто стаи оголтелых, бурей спугнутых птиц, но и центра сознания не было; мрачнейшая там прозияла дыра, перед которой стоял растерянный Николай Аполлонович, как перед мрачным колодцем…. стаи мыслей, как птицы, низверглись стремительно в ту пустую дыру; и теперь копошились там какие-то дряблые мыслишки. … Стаи мыслей вторично слетели от центра сознания; но центра сознания не было; перед глазами была подворотня, а в душе – пустая дыра; над пустою дырой задумался Николай Аполлонович».
По поводу центра сознания ничего не может сказать и восточная мудрость. По её мнению, чтобы отыскать «я», никакие мысли не подходят, они – результат деятельности «я». Ницше, в конце концов, разрубил Гордиев узел: «Нет никакого «я»!». Всё-таки Канту удалось рассмотреть в центре сознания стремление ко всё большему обобщению в кругу наших понятий. Таким путём разум достигает идеи Бога, своего последнего обобщения, после чего покидает почву опыта и перестаёт вырабатывать достоверные знания: «В пустоте его крылья не прокладывают никакого пути».
Нападки на Канта были по мелочам. В основном от тех, кто не читал его, а пользовался комментариями. Это особенно касается физиков, которые любят повторять, что пространство и время совсем не то, что думал о них Кант. Он, кстати, был физиком и сохранил для «коллег» эмпирическую реальность пространства и времени, а, как философ, использует их, как форму чувственности – трансцендентальную идеальность. По Канту, мы созерцаем с их помощью в себе явления: «Душа схватывает явления по законам пространства и времени». «Вещи в себе» существуют за пределами сознания и не познаваемы, являются в формах созерцания, и пространство и время – всеобщие формы таких созерцаний. По Канту, пространство – «не дискурсивное понятие, а чистое созерцание», время – «не дискурсивное понятие… а чистая форма чувственного созерцания». «Внутреннее чувство, посредством которого душа созерцает самое себя или своё внутреннее состояние, не даёт, правда, созерцания самой души как объекта, однако есть определённая форма, при которой единственно возможно созерцание её внутреннего состояния, всё, что принадлежит к внутренним определениям, представляется во временных отношениях. Вне нас мы не можем созерцать время, точно также как не можем созерцать внутри нас пространство».
Николай Аполлонович читал Канта, но забыл, что душу невозможно созерцать, иначе бы он оставил свои попытки увидеть центр сознания.
Внутреннее чувство вошло в пословицу: «крепок задним умом»; так что противоречие в восприятии, которое не является мгновенным, – а и ещё каким-то, – всеобще осознаётся. Схватывание непривычной информации возникает в картине внутреннего чувства с запозданием. Профессор Брюс Худ тоже зафиксировал формулирующееся в сознании с запозданием процессы организма, когда искал «я»: «Почему наше восприятие себя иллюзорно?.. Принимая решение, мы чувствуем, что некто, которого мы воспринимаем как себя, запустил механизм принятия этого решения. (Я возьму эту чашку кофе). Мы думаем, что приходит мысль, а за ней следует действие, но данные нейрофизиологических исследований показывают, что там может быть другая последовательность. Что-то в нашем теле хочет эту чашку, и двигательная система в мозгу приготовляется к движению. Примерно полсекунды спустя мы формируем эту сознательную мысль: «Я возьму кофе!» Очевидно, то, что мы называем самостоятельно принимаемым решением, является не тем, чем кажется. …Мы можем представить множество факторов как нити паутины. Наше представление о своей внутренней сущности находится в её центре, как иллюзорный контур. Мы можем видеть нечто, находящееся в центре паутины, но его форма определена тем, что присутствует вокруг». («Наука в фокусе», июль – август 2012). Профессор считает, что мы определяем пустоту, поставил перед собой ту же цель, что и Николай Аполлонович Аблеухов – увидеть «я».
Кант давно осветил эту проблематику: восприятие имеет два момента – схватывание и внутреннее чувство. Мелкие устойчивые моменты картины мира обобщаются до представления о себе, до понятия «я», но внутреннее чувство и тот «я», что мы с помощью данной работы ищем, не одно и то же. Внутреннее чувство не может быть «я», если отстаёт от реальности и само является частью восприятия, представлением о себе, которое изменяется: «Внутреннее чувство представляет познанию даже нас самих, как мы себе являемся, а не как мы существуем сами по себе. Мы внутренне подвергаемся воздействию и должны относиться пассивно к самим себе. Рассудок, как синтез воображения, производит на пассивный субъект, способностью которого он является, воздействие…». В дальнейшем пассивное отношение к себе ляжет в основу cogito Канта и явится для нас важным понятием. Кант старательно подчёркивает отличие схватывания от внутреннего чувства: «Психология отождествляет внутреннее чувство со способностью апперцепции, между тем, как мы старательно отличаем их».
Невозможность созерцания внутри себя пространства, а вне себя времени наводит на мысль, что наша душа имеет какую-то форму, ибо это определённое ограничение созерцания. Воображение не имеет, по крайней мере, какой-то части такого ограничения. Мы воображаем себе пустое пространство, хотя вокруг нас его нет, взгляд всё время натыкается на предметы. Во внутреннем чувстве созерцание пустого пространства, тем не менее, возможно, время тоже то идёт вспять, то опережает своё течение при воображении прошлого или будущего. Наше продуктивное воображение не считается с пространством и временем, как они есть, но пространство и время объективны, не отменимы и совпадают с репродуктивным воображением (схватыванием или апперцепцией).
Насколько я воображал Гадкого Утёнка, а насколько созерцал в себе? Покой, отчаяние, Гадкий Утёнок – эти состояния меняются, производят флуктуации, но само «состояние себя» – не воображение. Иначе придётся отказаться от верховной реальности, на которую всё время натыкаешься, в том числе, и внутри себя. Верховная реальность так просто не отменяется воображением, значит, и не подчиняется ему.
Кант разделил пространство на эмпирическое и трансцендентальное. Наш опыт принадлежит им обоим, они – подобие. Вроде бы, то и другое – пустота, но не равенство. В трансцендентальной пространстве нет материи, и трансцендентальное время тоже может течь в любую сторону: – из-за этого всё запутано. Более того, современные физики уже выдвигают теорию о происхождении космоса, по которой вначале возникают не пространство и время, а спутанность…
По мнению Гегеля, Кант некритично включил в логику идею категорий. Аристотель выдвинул список категорий эмпирическим путём, не доказывая всеобщности, полноты и обязательности, которые Кант сам определил, как критерии априорного знания, так что Гегель делает основательный упрёк… «Эти всеобъемлющие категории разума – тут есть над чем посмеяться честному человеку. Какая разница – восемь их или девять? «Всё это не имеет ничего общего с умом, отрицает его глубочайшую суть, состоящую в том, что он порабощён миром». (Камю).
Мы, действительно, логично мыслим, не думая о категориях разума. Ножки от стола мысленно никто не отделяет, чтобы «проанализировать» стол, для этого достаточно акта внимания. Никто не анализирует, и какое понятие шире: «дерево» или «береза», – это тоже очевидно. Такой анализ разум производит мгновенно, логика включается в работу автоматически вместе с вниманием. А само внимание направляется нашими целями. Вот только иногда они деформируют внимание до позитивных и негативных галлюцинаций; незаметно для сознания деформируется и логика.
Не смотря на это, смысл доводить логику до мыслящей стороны сознания был у Аристотеля: «То, что ты не потерял, ты имеешь. Ты не потерял рога. Значит, у тебя есть рога». – Логика позволяет указать на ошибку в первой посылке. Ты имеешь то, что не потерял, при условии, что это вообще имел. Вообще же, этот софизм попахивает памятью о козлоногих людях: никакой и не софизм, а логическое высказывание, преследовавшее цель – не иметь рогов. Логика – инструмент внимания, который отчасти подчинен внутренним целям индивида. Можно беспокоиться о логике, зависимой от состояний индивида, которые захватывают власть над целями. Камю такое беспокойство выразил: «…о чём, по какому поводу я мог бы сказать: «Я это знаю!». О моём сердце – ведь я ощущаю его биение и утверждаю, что оно существует. Об этом мире – ведь я могу к нему прикоснуться и опять-таки полагать его существующим. На этом заканчивается вся моя наука, всё остальное мыслительные конструкции. Стоит мне попытаться уловить это «я», существование которого для меня несомненно, определить его и резюмировать, как оно ускользает подобно воде между пальцами». Логика помогает «определять и резюмировать» в эмпирическом пространстве и времени, принадлежа субъекту, который есть в трансцендентальном пространстве и времени. Этот субъект говорит: «Я это знаю», – и у логики есть убеждение в принадлежности своему субъекту, в его существовании, которое представляется ей истиной. Следовательно, всё, что субъект желает или думает, является логичным. Знание о том, кто говорит: «Я это знаю», – очень важно, потому что субъект начинает плыть и ускользать, как вода между пальцев.
«Я» пытались отыскать целые научные коллективы. Учёные разных областей знания собрались однажды вместе, чтобы создать структурную решётку и уловить, наконец, «я», но в результате их усилий «я» ушёл сквозь решётку, как вода сквозь сито. Так, что Камю был не последний, у кого «я» прошёл, как вода сквозь пальцы.
В связи с актуальностью проблемы интересно взглянуть на ответ марксистского учения на этот вызов, стоящий с начала философии.
Маркс не писал философских трудов, только составил тезисы к одной работе. Они так и называются: «Тезисы о Фейербахе». Последний тезис стал знаменит: «Философы различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Это мысль Бэкона: «практика – критерий истины», – а собственная мысль Маркса, судя по тезисам, сводилась к тому, что человек – продукт общественных отношений.
Что человек не пляжно-уличная личность, – такое заявление по сути ничем не отличается от заявления Ницше: «Нет никакого я». Оно никуда не ведёт, скорее, констатирует отсутствие проблемы, в то же время отрицает активную природу «я». Кто же тогда с ужасом спрашивает: «Отношения есть, а меня – нет?!».
Ещё Маркс «поставил диалектику Гегеля с головы на ноги», – и в результате диалектической метаморфозы из продукта общественных отношений или нет никакого «я» получилось: «Кто был ничем, тот станет всем». Такую маску можно носить даже с удовольствием. Но, на самом деле, «продукт общественных отношений – объект манипуляций, итог развития философии, которая зашла в тупик… По Марксу, сознание определяется бытием, и сознание пролетариев должно определяться их бытием… Скорее, оно определяется бытием буржуев. Мы – завистливые субъекты. Это наше последнее определение?
Ленин тоже хотел написать работу по философии и написал четыре странички: «Камень, упавший на землю, оставляет на ней след. Отражение – общее свойство материи. Наше сознание отражает мир, как земля отражает камень». Кажется, после этого у него мысль встала колом. У меня, по крайней мере, она останавливается или идёт в противоположную сторону. Земля, конечно, отразит камень, но не раньше, чем он на неё упадёт. Определение сознания – опережающее отражение действительности – и никаких средств у материализма нет, чтобы объяснить сознание. Поэтому ключевой фразой всех советских компендиумов стало: «марксизм-ленинизм впитал все достижения предшествующей философской мысли».
Маски общественных отношений олицетворяют общественные отношения. Они кодифицированы, приспособлены для коллективного опознания. Логик А. Зиновьев по поводу них пишет следующее: «Не из вежливости и не от мании величия тот занудный профессор говорил «мы», когда мог вполне спокойно и безнаказанно употребить «я». Тут действовал социальный инстинкт, ибо у нас нет никаких «я», а есть только «мы». Что такое мы? Мы – это ты, я, он. Мы – это не ты, не я, не он. И ни в коем случае не Магомет, не Христос, не Наполеон. Это – некий Иванов, некий Петров, некий Сидоров. Мы – это одержимые единым порывом, движимые чувством законной гордости. Мы – это исходная категория нашей идеологии».
Мы не будем изучать маски. Нас интересует «я», который их выбирает…
Меня лично загипнотизировал апломб Ницше: «Я» – фикция!». Я с ним хотел согласиться, даже стал приводить себя в пример, и поначалу всё шло хорошо. Но одно воспоминание спутало мне карты.
Мне примерно три года. Я брожу по пустому огороду бабы Нюры, за низеньким частоколом заметил кур и захотел их потрогать. Вообще-то, мне запрещено трогать кур, но запрет касается бабы Марфиных кур, а сейчас речь идёт о бабы Нюриных. В огород я попал через забор, поставил ноги на перекладину и перелез, даже сам удивился, что легко получилось. Частокол в три раза ниже, но перелезть гораздо трудней. Колья цепляются за штаны, не перекидываются ноги… я стал неуклюжим, но, наконец, перелез. Куры не проявляют ко мне интереса, роют землю ногами, время от времени что-то клюют… Я выбрал одну из них, чтобы погладить, но пока наклонялся и руку протягивал, она унеслась. Другая курица тоже унеслась в последний момент. Я хотел задуматься над их одинаковым поведением и изменить как-то своё, но напал охотничий азарт. Чего думать – надо было ловить!.. Неожиданно куриные лапы сами вцепились мне в плечи. Я получил тупой удар клювом по голове… Их последовало уже несколько. Никак не могу сбросить эти лапы с плеч, наконец, я заревел. Баба Нюра выросла, как из-под земли. Она избавила меня немедленно от напасти, которой оказался петух. Я возвращён домой, утешен, меня даже не ругали за кур…
На следующий день я счёл за благо пойти к бабе Нюре в гости уже через калитку. Она сама открыла и пригласила проходить в дом. Никогда таких церемоний не было. Но я не стал подниматься на крыльцо, сразу двинул в ограду. Меня интересовала стычка с петухом. Шансы у меня были хорошие. Он меньше в два раза, и я не собирался подставлять ему спину…
Баба Нюра следовала за мной. Это было тоже хорошо…
Сразу заметить петуха за частоколом не удалось, среди кур его не было. Я подумал, что он опять за спиной, резко обернулся назад… к бабе Нюре:
– Где петух!
Баба Нюра открыто удивилась: – Мы ещё вчера его съели! Отрубили голову и сварили суп. – Тут я почувствовал стыд перед петухом. Больше стыда ни перед кем не было. Мой поступок совпал с запретом мне что-то делать, но это вызывало отдельную досаду. Откуда в моей душе взялся стыд перед петухом? Теперь я стою перед этим стыдом, как перед загадкой.
«Наши инстинкты, в том числе и моральный инстинкт, заботятся о пользе», – говорит Ницше. В данном случае речь не идёт о моей пользе. Речь вообще не идёт о чьей-то пользе. Мой стыд бесполезен петуху, бесполезен мне и бабе Нюре. Она хотела утешения для меня: врага больше нет.
Я проявил с ней скрытность, но посетовал на смерть петуха бабе Марфе. Она встала на сторону бабы Нюры: «Он мог тебе глаз выклюнуть». Я об этом как-то не подумал. Всё равно стыд перед петухом, с которым я столкнулся, предельно непонятен. Врождённая совесть – это сюрприз!
Я включаю в себя нечто, что безусловней моего опыта и выгоды. Когда мы шли с мамой в гости, я сам выбирал выгоду. Слёзы выбили бы меня из колеи, я их не выбрал, сделал ставку на воспринятую интонацию, но в случае с петухом что-то перечёркивает и воспринятую интонацию. Баба Нюра мне подсказывает, что всё уже кончилось. Она делает меня правым в отношениях с петухом и ожидает облегчения. Почему выгоду от смерти супостата заменяет стыд? Совесть – это совершенно неожиданная новость!
О внушении мне совести не может быть и речи. Я фильтрую внушения. Они вызывают у меня досаду, но, на всякий случай, нужно проверить себя на лицемерие…
Я опять забрел к бабе Нюре, обычно открытые дверные створки в комнату сейчас закрыты. Я их открыл. За дверью оказалось много народу: младшая тётя, тётя Эля и баба Нюра молча повернули ко мне головы, будто, посылая мысль уйти. «Собственно, в чём дело?». – Младшая тётя примеряет лифчик. Тётя Эля с ним возится, и на младшей тёте нет трусов. Я остаюсь из любопытства. Чтобы понятней было, даже дверь захлопнул… Младшая тётя начинает на меня наступать: – Бука! Бука! Бука! – Её басистый голос мне свидетельствует, что я должен бояться. «Бука» – это, видимо, чёрный треугольник между ног. Почему-то, тётя думает, что он страшный. Скоро «бука» оказывается совсем рядом, я вижу слабые волоски. Мне хочется с размаху дать по этой «буке» ладошкой, но сбивает с толку тётина уверенность, что я должен бояться.
В моих глазах «бука» вдруг делается огромной. Я, действительно, пугаюсь и с рёвом неуклюже отступаю за дверь. Пожалуй, это лицемерие, но на него был спрос. В случае с петухом спрос был на облегчение. Моя реакция на его смерть манипуляциям не подчинялась. Моей рациональности хватило только на скрытность.
Кажется, что стыд перед петухом фундаментальней любого выбора моего воспринимающего центра. Младшая тётя воздействовала на меня интонационно, баба Нюра тоже воздействовала интонационно, когда заявила об исчезновении петуха из моей жизни. Почему тётино воздействие отражено моим сознанием, как-то отрефлексировано в поведении, а стыд перед петухом полностью подавляет любое поведение, которого требуют обстоятельства? Стыд манипулирует мной. Кант в своё время не нашёл безусловное, но и не исключил его возможность.
Дядя Толя рассказывает бабе Нюре что-то невероятное. Она весело смеётся… и верит. Я вслух выражаю сомнение: – Он же врёт.
Баба Нюра объяснила: – Он шутит. – Я не уловил разницу, но выгоду почувствовал, на следующий день сообщаю дяде Толе что-то корыстное для себя. Он не поверил ни одной секунды, немедленно реагирует: – Ты врешь!
Я решил выкрутиться:
– Я шучу.
– Нет, ты врешь!
Крыть мне было нечем. Лучше было притвориться непонятым.
Нет нужды трудиться над дефиницией: цинизм это или лицемерие. Во мне достаточно обусловленного в самом нежном возрасте, и я манипулирую им. А стыд перед петухом манипулировал мной. Вот, в чём загвоздка.
Ещё я вру дяде Толе, что шучу, и не чувствую стыда, а только отчаяние человека, прижатого к стенке… Я не чувствовал стыда, и когда врал отцу, что понял, как летит ракета, и матери – что раскаялся. Кажется, мой центр меняет режим собственного выражения. Мои ощущения Гадкого Утёнка меняются вместе с ним и с логикой поведения, которая есть граница меня и мира.
Если стыд и совесть – одно и то же, – а, кажется, именно так и есть, – мы должны констатировать, что стыд не является автоматической реакцией на враньё. Совесть не преследует всякое враньё стыдом. Кажется, речь идёт о преследовании поступков, и, возможно, к ним относится и какая-то речевая деятельность, которая преследуется стыдом. Угрызения совести – следствие чего-то более безусловного, чем враньё.
Гадкий Утёнок и отчаяние тоже отличаются друг от друга: отчаяние – противное ощущение, но в этом состоянии я – не Гадкий Утёнок. Отчаяние каким-то образом его отменяет. Кажется, при ощущениях Гадкого Утёнка моя энергия направлена на терпение, а при отчаянии тратится на внутреннюю активность. При ощущениях Гадкого Утёнка мои внутренние состояния внешне незаметны, а у потрясаемого активными чувствами, они кажутся мне самому освещёнными до последней волосинки.
Когда мать тянет меня за руку, и мой воспринимающий цент выбирает – плакать или не плакать, – я не плачу, потому что мне так выгодней, – моё внутреннее чувство является внешне незаметным, мой опыт подсказывает такой выбор. В случае же с петухом что-то выбирает за меня, отодвигает и опыт моих выгод, который я просчитываю сейчас задним числом. Стыд, хоть и закрыл внутреннее чувство от выгод, но я всё запомнил.
Когда я лицемерил с «букой», моё внутреннее чувство было изменено доверием к желанию тёти, чтобы я боялся, но, когда баба Нюра предлагает мне какое-то изменение, моё внутреннее чувство встало колом. Мой стыд парализует его изменение. Я оказываюсь захвачен в трансцендентальном пространстве и времени каким-то недоверием. По сути, стыд перед петухом и есть недоверие к описанию мира, которое предлагает баба Нюра. Её слова точно описывают внешнюю реальность, предполагают и предписывают мою внутреннюю реальность, но моё внутреннее чувство не соглашается с этим. Или кто-то это делает за меня? Мой центр состоит из внутреннего чувства в трансцендентальном и схватывания в эмпирическом, но из-за стыда центр начинает терять очертания. Мой воспринимающий центр или опыт сводим к схватыванию и внутреннему чувству, но я оказываюсь не сводим к своему центру из-за совести. Либо речь должна идти ещё о другой паре: – доверие и недоверие.
Воспринимающий центр безошибочно настроен на смысл, вполне допускает лицемерные и циничные расчёты, но этот настрой обусловлен. «Гадкий Утёнок» и отчаяние выражают тоже обусловленный смысл. Центр кажется смещённым в одну сторону: Гадкий Утёнок превосходит ощущения отчаяния количественно, но сейчас это не та проблема, которая стоит перед нами. Доверие и недоверие – вот, в чём нужно разбираться. Всё было бы просто, если бы не совесть… Логика, одинаковая для всех, управляется целями, одинаковыми у всех, все могут быть тоже одинаковыми, благодаря маске.
Светлый, кудрявый мальчик подошёл ко мне за воротами детского сада. Мы практически не играли вместе, я выслушал его новость с удивлением. Он сказал, что Галька покажет письку, если ей показать свою. Я растерялся и усомнился. Он заверил, что она согласится. Он определенно давал мне совет. Мыслей в голову пришло сразу несколько. В сухом остатке я заподозрил саму Гальку за советом… Галька меняла правила игры каждую минуту, вызывая у меня досаду, но бегала с мальчишками. В отличие от других девчонок с ней можно было запросто поговорить. По наущению кудрявого мальчика, я ей сделал предложение про письку, в этот момент сам не понимая, что говорю. Галька легко согласилась. Мы побежали в туалет по её инициативе. Она была сориентирована… В туалете я с недоумением смотрю на свою обнажённую письку. То, что показала Галька, почему-то, не было для меня новостью. Я думал потрогать её письку, но толком не разобрал, к чему прикоснуться. Мы вернулись во двор, каждый стал играть сам по себе… Всё-таки мне захотелось потрогать её письку. Я позвал её снова. Она согласилась, уже уступая…
В туалете я обнажил свою письку по-честному. К моему удивлению, она налилась и приподнялась без помощи рук. Галька неожиданно шагнула и села писить, её писька унеслась далеко. Солнечные зайчики играли в струйке, разнообразя картину, но я чувствовал только досаду, и рассчитывая потрогать письку, сказал бессмысленную фразу:
– Покажи свою!
– Смотри! – удивилась Галька, потом встала и убежала. Я стоял какое-то время в туалете, переживая досаду. Когда собрался уходить, показалась девочка, которая мне всегда нравилась. Это была прекрасная замена Гальке! Я только встревожился, что она войдёт в соседнюю дверь и высунулся в щель: «Заходи! Заходи!», – позвал шёпотом. Девочка зло крикнула: «Я всё расскажу воспитательнице!», – и убежала.
Тут я немного одумался: отношения с Галькой не распространялись на весь мир. Срочно удрав из туалета, я, как ни в чём не бывало, стал играть во дворе. Какое-то время казалось, что раздастся голос воспитательницы, меня зовущий по имени. Я не знал, что буду врать? Что-то сообразительность отмораживало. К счастью, всё осталось тихо.
Как-то, будучи взрослым, я зашёл во двор этого детского садика. Там развернуться было негде. Как мы умудрялись делить его на три большие части?..
Дома хранится фотография детсадовской группы: Галька на ней оказалась яркой еврейской девочкой. У Петьки – тонкие ручки и пузико. Он такой маленький, что не верится. Я узнаю и красавицу, которая убежала от меня, узнаю девочку, которую за круглое, как у куклы, лицо, умильно любили все воспитательницы, узнал кудрявого мальчика… но так и смог вспомнить, кто Карандаш?
Как-то Петька отозвал меня в сторону, показал ржавый гвоздик и сказал, что собирается целить им Карандашу в глаз во время драки. Мы не играли с Карандашом, но это ровным счётом ничего не значило. Ужас за мироздание охватил меня. Я возразил Петьке: он не проронил больше ни слова. Я тогда произнёс неразумные для себя слова, выглядел трусом, хотя драка меня не касалась. Я скрытен по воспитанию, но, в данном случае, это не действует. Так что совесть (или недоверие) вплеталась в работу моего воспринимающего центра не только в случае с петухом. Я не преследовал тогда собственную выгоду, которую внутреннее чувство схватывает, вернее, имеет в себе уже схваченным и вполне осознаёт… Недоверие отбрасывает это схватывание. Можно также сказать, что трансцендентальное пространство и время парализует эмпирическое пространство и время, не позволяя какой-то эмпирической логике развиваться.
После сада мы с Петькой попали в разные школы, но в пятом классе снова встретились и оказались за одной партой. Правда, нас рассадили через пару дней. В шестом классе мы подрались. Мне надоели его бессмысленные интриги в отношении новых одноклассников. Правда, новых для меня, а не для него. На следующий год Петька ушёл из этой школы…
Мы встретились в девятнадцать лет. В своей жизни он уже наломал дров, разбивался несколько раз на мотоцикле: имел искусственную пластину в черепе, стальную спицу в ноге, раздробленной на мелкие косточки, вторая нога была просто сломана, руки само собой тоже сломаны. Сломанные ребра Петька за травмы не считал. В армию мы не ходили, на меня тоже упал свет его кармы. В пятом классе мы с ним записались в секцию горных лыж по его инициативе, и отправляясь на второе занятие, я попал под машину. Никаких сломанных костей – ссадина на плече и на голове, но было сотрясение мозга с парой эпилептических припадков в детстве… Тогда же в девятнадцать лет Петька рассказал, что какой-то Бык проигрался Струте в карты. Я не стал уточнять, что было проиграно, но Петька с Быком пришли к Струте, чтобы его убить. Ни много, ни мало. Им открыла мать Струты. Его не было дома. Они ушли, но хотели идти снова… Петьку удалось отговорить. Я просто сказал, что Струту не надо убивать. Мой бывший друг опять не проронил ни слова.
По слухам, Струту убили, но это случилось позже, и он сам протянул руку своей судьбе. Сидя в тюрьме, Струта не оставил вооружённому охраннику другого выбора…
Петька умер примерно лет в сорок. В трамвае уже после собственных сорока я как-то встретил малыша, который сидел на коленях у отца. Он на меня смотрел сосредоточенным, как у Петьки, взглядом. Пока я смотрел в ответ, малыш широко хлопнул веками по глазам и уснул. Чьи воспоминания его усыпили, мои или свои собственные?
Совесть и воспринимающий центр состоят друг с другом в каких-то отношениях: «Разум с честностью – в превеликой ссоре», – так характеризует эти отношения И. А. Крылов, но совесть в этих отношениях выглядит более безусловной, если блокировала до полной немоты мой центр, когда я думал, что буду врать воспитательнице про туалет. Центр, конечно же, обусловлен, но, если бы я содержал в себе только этот обусловленный момент, можно было бы согласиться с Ницше: «Нет никакого «я»!», – я был бы сформирован обстоятельствами жизни, но совесть задаёт интригу. В то же время мы находимся в реальности, в которой быть только совестью – самоубийство. Я ни при каком условии не могу отказаться «себя», который выкручивается и лжёт, – но как я могу быть одновременно безусловным и обусловленным? Это – противоречие в определении. С другой стороны, «неразгаданный феномен человека» давно бы разгадали без этого противоречия.
Я могу быть безусловным, должен быть безусловным, но совесть, как безусловное, не включает в себя то, что я считаю собой…
Взаимоотрицание совести и лжи тоже какое-то не прямолинейное, вопрос ещё запутывается тем, что безусловная совесть не может иметь регулятор применения. Она прекращает быть безусловной, регулятор становится безусловней. Моё сознание, таким образом, имеет не вполне ясное начало: на всех этапах своего становления содержит обусловленные моменты: сознание ребёнка, сознание подростка, сознание взрослого, – мы являемся продуктами общественных отношений. Видимо, надо исходить из того, что «я» появляется на свет в результате рождения, но утверждать, что я родился с совестью и наткнулся на неё в три года, будет заверением.
С чем я родился, – бог его весть?! А вот, когда у меня родился сын, в возрасте одной недели он умел плакать с разными интонациями. Его тоска, требовательность, нетерпение, отчаяние, и даже вопрос выражались одним звуком: «ы-ы-ы». Никакого жизненного опыта у него ещё не было, ребёнок умел сосать титю и лежать на спине. Тем не менее, плач выражал весь спектр человеческих смыслов, который я мог найти у себя.
В дальнейшем сознание взрослого сына включилось в работу в режиме общества, в котором он живёт, но у меня такое впечатление, что со смыслом он уже родился…
Жалобный, слабенький голосок в первую неделю жизни произвёл на меня некоторое впечатление, я поделился им с соседом, у которого была дочь пяти месяцев: – Подожди, скоро начнёт орать!», – сказал сосед.
Действительно, через месяц голос прорезался: «а!», «у!!», «э!», – но сначала был «ы-ы-ы», включавший весь спектр человеческих смыслов. Потом будет пальчик, указующий на предметы: «ы-ы-ы?». Надо было назвать: трамвай, машина, тётя…
Если я понимаю интонацию плача, это – явление семантического порядка. Но, по мнению лингвистов, у звуков нет смысла, его не имеют и междометия, выражают только эмоциональность: «ха-ха!», «ах!» … Но можно заметить, что ха! и ах! содержат переставленные звуки, их эмоциональность тоже какая-то противоположная. Может, всё-таки есть в междометиях смысл?
Лингвистика изучает язык, как систему, структура языка – её мечта. Когда ей станет доступен структурный анализ языка, возможно, появится шанс доказать себе, что звуки имеют смысл? По крайней мере, смысл есть, если спроецировать на содержание романа «Петербург» слова Андрея Белого: «из… л – к – л – – пп – пп – лл, где «к». – звук духоты, удушения, от «пп – пп» – давления стен Жёлтого дома, а «лл» – отблески «лаков, лосков и блесков» внутри «пп» – стен или оболочки «бомбы», «пл». – носитель этой блещущей тюрьмы – Аполлон Аполлонович Аблеухов; а испытывающий удушье «к» в «п» на «л» блесках «К»: Николай, сын сенатора».
Совершенно отдельные звуки в потоке речи встречаются не так уж редко: «а завтра?», «а сколько времени?», «а не знаю!» … Человек, таким образом, выделяет своё высказывание в ленте речи, что-то подчёркивает. Стоит допустить, что он подчёркивает самого себя, говорит: «я». С позиции этого предположенного смысла разберём междометия «ха» и «ах», но сначала вложим какой-то смысл и в «х». Это тоже нужно сделать.
Кажется, что эмоциональный фон становится опасным для здоровья: «х! х!». Допустим, что «х-х-х» – это враг. Когда возникали междометия, всё ещё было конкретно… Теперь почему «ха!» – это весело, а «ах!» – наоборот? Кажется, эмоциональный смысл междометия совпадает с последним звуком. Если в результате борьбы с врагом, я победил, тогда: «ха!». Если враг победил, тогда «ах!». Французский философ Жиль Делёз выдвигает фундаментальное положение: «Смыслом обладают только события». Междометия, как раз и есть события: «ха!», «ах!».
Смысл, возникающий в конце, прослеживается и у отдельных звуков: «хр-р-р», «фр-р-р. Это угроза или опасения самой лошади, но звук в процессе становления оказывается одним и тем же в итоге. Он акцентируется, как «р». Итоговый звук – это первый уровень развёртывания смысла. Впоследствии из итогового смысла последнего звука, взятого в качестве акцента, развивается структура языка.
Жиль Делёз пишет о едином Голосе Бытия: «Бытие – это Голос, который говорит, и говорит обо всём в одном и том же «смысле. То, о чём говорится, вовсе не одно и то же, но бытие – одно и то же для всего, о чём оно говорит. Бытие – уникальное событие во всём, что происходит даже с самыми разными вещами». Попробуем понять, чем мог бы быть единый Голос Бытия с точки зрения звуков?
Мир издает звуки. Это – шум, который выражают согласные: п, к, т, с. Все согласные на конце имеют редуцированное «ы». Это – тот самый звук, что потряс меня в плаче своими разнообразными смысловыми оттенками. «Ы» – общий знаменатель согласных звуков, возникающий в конце. Фамилия советского актёра Фрунзика Мкртчяна вообще не произносится без «ы»: Мыкыртчян. То же самое: «кс-кс», либо: «кыс – кыс», либо: «ксы-ксы». Ы – единый Голос шума – создаёт несколько тоскливое впечатление, но это – гласный звук в отличие от согласных.
Если прислушаться, то все музыкальные инструменты заканчивают звучание на «Ы», но нередко из тоскливого он становится юбилейным: «и!». Иногда «Ы» встречается у певцов, как общий знаменатель голоса. С таким голосом повезло родиться Валерию Леонтьеву и Маше Распутиной; наверное, кому-то ещё, но названные певцы испортили всё дело, пытаясь подчеркнуть специфику своего дара. Сознательная рефлексия единого Голоса Бытия им не удалась. Удачный пример такой рефлексии есть у Аллы Пугачёвой в песне «Мэрри». Там не просто много звуков «Ы», они там все, но исполняет их в основном гитара. Вообще же вокал у Аллы Пугачёвой, скорее, на «а». Валерий Сюткин поёт «э», Луи Армстронг поёт «эй».
Мы можем допустить, что из «ы» в каком-то условном смысле развиваются другие гласные звуки единого Голоса Бытия. Их пять вместе с «ы»: «у», «о», «э», а»; – и пять дифтонгов: «и», «ю», «ё», «е», «я» («jы», «jу», «jо», «jэ», «jа»). Гласные обладают определённостью под ударением, а в безударном положении теряют свою определённость или акцент. Ударение в языке – тождественно акценту на конце междометия. Событие, обладающее смыслом, само по себе тоже ударное. «Звуки – сочетание телесных действий и страданий». (Делёз).
Проще всего из «ы» образуется «у». Это голос боли. Из «у» довольно просто образуется «о» – видеть или замечать опасность боли. Мы придадим звуку «о» смысл опережающе отражать боль. Далее смысл развивается к объекту, причиняющему боль. Это – «э», а в завершение из «э» возникает «а». Это –сознание, направленное на объект, способный причинить боль. В то же время – это выражение своей противоположности объекту. Всё начинаться и с «у» может и развиваться к «а», а «ы» тогда стоит как-то отдельно.
«Жжу-у-у!», – муха бьётся о стекло. Что за «у-у-у» такое? Уж не просит ли муха помощи? Уж, не у меня ли? Я охочусь за ней, чтобы убить. Моё сочувствие не распространяется на мух. Убийство – противоположный полюс сочувствию. В едином Голосе Бытия смысловые противоположности, будто, погружены друг в друга, как гласный в согласный. Так же можно погрузить в смысловое единство физиков и богословов: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было – «Бах!». Большой Взрыв и Бог отличаются друг от друга одним звуком. Возможно, русский язык лежит в основе мироздания.
Привет, древние укры, ваше слово: «Deus».
Звуковые кирпичики в словах сохранили свой противоположный смысловой узор до сих пор. Например, «осмотреть», «посмотреть» отличаются друг от друга одним звуком: и посмотреть кажется как-то короче по смыслу, а просмотреть – ещё короче, и нередко используется в значении не заметить. Что, собственно, произошло, что смысл изменился на противоположный? Перед «о» накопились согласные, и мы уже смотрим, но не видим. Что «о» – именно «взгляд» для всех народов и языков можно понять благодаря французскому лингвисту Шарлю Балли. Он пытался создать структуру языка и в одной из своих работ указывает на рост краткости высказывания при нарастании его эмоциональности: «Я удивлён тем, что вижу вас здесь»; потом: «Вы? Здесь!»; «Вы!»; и, наконец: «Оh!». Последнее восклицание даже не требовало перевода и было оставлено переводчиком в русском тексте, который я читал, как есть.
«Международная группа лингвистов и кибернетиков из США, Аргентины, Германии, Нидерландов и Швейцарии установила, что человечество говорит на одном языке. Учёные при помощи специальных компьютерных программ проанализировали по 40 – 100 базовых слов в 3700 языках. Это примерно 62% всех существующих в мире языков. В результате удалось обнаружить закономерности, которые раньше лингвисты не замечали… До последнего времени считалось, что звучание слов зависит от их этимологии и особенностей произношения у различных народов, то есть связь эта произвольна. Однако новое компьютерное исследование показало, что у всех языков в мире есть скрытые общие корни. Для базовых слов люди, независимо от их происхождения и места проживания, выбирают одни и те же звуки.
Предлоги современной речи тоже нередко отдельные звуки. Их смысл вне контекста требует длинной вербализации, но для понимания в ленте речи она не нужна. Предлоги, состоящие из одного звука, ещё раз доказывают, что звуки, в том числе и согласные, имеют смысл. Звуки вообще встречаются в речи довольно часто. При помощи «у! у!», например, можно выразить неодобрение, иронию или противоположный смысл – восхищение. Если неодобрение более или менее совпадает с болью, то восхищение всё запутывает. Но смысл звуков запутан не хаотически, а амбивалентно. С помощью «ы» можно выразить радость, – всё дело в интонации. «Хм» («х») может выражать одобрение, а «а» – быть как возгласом выделения себя, так и возгласом боли. Акцент при «а» на себе стоит, а что он означает можно судить по ситуации и интонации.
Междометия, как и звуки, оборачиваются вокруг своей смысловой оси, но и слова это тоже делают, приобретая в речи противоположный смысл: «ха!», «ах!», «ау!», «уа!» – Ура! Кто-то считает «Ра» именем бога. Это междометие имеет семантику преодоления опасности, как «ха!», только «ха!», кажется, конкретней. «Ра» может быть первой абстракцией. Сонорный согласный «р» – то ли гласный, то ли согласный. Плюс ещё один гласный. Если гласные придавали шуму обобщающий, итоговый смысл, то сонорные согласные могли быть первый ступенью к этому смыслу. В «ра» мы получаем сразу что-то вроде двух обобщений. В праязыке функцию обобщения могли иметь и дифтонги. Возможно, система звуков, складывалась более сложным образом, из согласных выделился не только «ы». Краткие звукосочетания при коммуникации часто повторялись друг за другом. Это могло быть вызвано повторяющимися событиями. Из звуков и звукосочетаний, которые мы называем междометиями, позже образовались слова. В этой логике «крамольник» В. Сундакова – целое предложение. Позже слова соединились в предложения, а предложения – в тексты. «Язык дан весь сразу, – считает Делёз, – а события лежат в его основе». Боль, как событие, имеет смысл принадлежности. Она и есть принадлежность вместе с противоположным смыслом… Слово «урожай» сохранило «у», как удовольствие. «Урод» имеет тот же корень и приставку, но смысловая амбивалентность изменила его значение, зато польская «uroda» до сих пор – «красавица». Мы находимся практически в современном языке среди междометий. Недавно философия додумалась до связи смысла с плоскостью или поверхностью, а плоские руны использовались для опережающего отражения действительности, , то есть для предсказания событий. Плоскими являются и современные средства гадания – карты. Названия рун ещё и звучат, как междометия: nisudh – «не важно». Это – один из смыслов руны манназ; «h» как-то влияло на звучание «d», но всё равно получается «нисуд». Если «нисуд» – «не важно»; значит, «суд» – это важно. Кто бы спорил? «Суд» есть в слове «судьба». «Ба» – тоже междометие: «Ба! Какие люди!», – что-то громкое, как барабан. Короткие звукосочетания способны выражать и спокойный смысл. Например, «на» – вполне спокоен: «На, возьми». Вот «ан» – эмоционален! Если ударило током, «ан!» вырывается сам собой, в письменной речи «ан» тоже используется для пафосного усиления отрицания: «Ан-нет!».
Разберём этот случай пафосной эмоциональности. Согласный перед гласным «на» ослабляет смысл «а», как в слове «посмотреть» по сравнению с «осмотреть», в то же время слабый «а» – итоговый. Это один тип пафоса. В случае «ан», «а» – не итоговый, зато значение «а» усилено согласным. Если согласный перед гласным ослабляет смысл, то согласный после гласного должен усиливать. То же самое касается «ха» и «ах!». У нас возникает второй тип пафоса.
Маленькая девочка бежит за голубями, хочет их схватить: «Ам-ам!». Песня М. Боярского: «Ап! – себе говорю, – Ап!». «Стоп! – себе говорю». если Обернуть «ам-ам» в «ма-ма», то смысл будет: «хватай меня!», спасай! Если обернуть «ап-ап», получается «па-па». Скорей всего, смысл «па» связан с охотой, использовался при загоне добычи в ловушку или призывал двигаться на звук своего голоса. Танцы – охотничий ритуал. До сих пор «па» предлагает двигаться под музыку, а, если не придавать большого значения правописанию, то и «пАшли» содержит «па». «Ап» – это, действительно, стоп! Ещё повторение одних и тех же звуков задаёт ритмический размер: «Ам-ам», «ма-ма».
В звуках языка и междометиях амбивалентность лежит на поверхности. Говоря «ах!», притворно, мы можем иметь надёжную позицию или, наоборот, смеяться: «ха-ха-ха», – когда всё шатко. «Ага» вообще – «ах» и «ха» вместе. После того, как в языках возникли слова, смысловая амбивалентность ими не была утрачена. Она представляет собой безусловность. Гегель: «Aufheben» в немецком языке имеет двоякий смысл: «сохранить», «удержать» и в тоже время: «прекратить», «положить конец». Для спекулятивного мышления отрадно находить в языке слова, имеющие в самих себе спекулятивное (созерцательное) значение, в немецком языке много таких слов». Амбивалентности подвержены и самые, что ни на есть, абстрактные слова. «Догма» – важный церковный термин – имеет нередко ироническое значение. То же самое – «для особо одарённых». Сначала имелись ввиду одарённые дети, а потом – тупые взрослые, которым нужно повторять одно и то же. В метафорической речи тоже вполне различим амбивалентный принцип…
Устойчивое повторение событий – внешняя причина языка. Изменения в языке связаны с изменением событий, но какие-то события, связанные с биологической и социальной природой человека, должны повторяться с самого начала его возникновения и тянуться до наших дней. Безусловно, звуки и междометия являются такими устойчивыми событиями, но и связь индоевропейских языков мы тоже рассмотрим. Например, слово «блуд» встречается в русском и английском языке, и, скорее всего, в английском сохранило свой первоначальный смысл «кровь», как и в немецком. В русском слово обросло метафорическими переносами. «Заблуждаться» (ошибаться), «заблудиться» (в лесу), «блудить», наконец, «блуд» и «блядь». Последнее слово – прямое указание на девушку, у которой возникла кровь в связи с блудом. До сих пор, когда люди говорят «блядь», на каком-то глубоком уровне сознания он говорит «кровь». В книге «Мир без времени», где на складе я ищу бумажку, она имеет тот же смысл, что и «блат». По крайней мере, по-немецки «Blat» – тоже бумажка. На бессознательном уровне мной производится сближение этих слов. Напрашивается и сближение крови и листа: blad(а) и blat (а). Общий корень этих слов «bl» в праязыке мог означать, например, цвет, а «d» и «t» – окончание, различающее этот цвет. Наличие крови важно различать и до сих пор. В современном русском «бледный» тоже ближе к обескровленному… В немецком языке «der Krieg» – война, в русском есть звуковое соответствие «крик» с той же семантикой. По-русски «война» – тоже «вой». Корень слова «вой» – «во», третий звук «й» похож на ударное окончание. «Воин», «воевать» – третий звук в этих словах мог быть окончанием, но стал внутренним звуком слова и утратил ударность. Она сдвинулось ближе к концу, как и должно было быть в древности. Третий звук слова акцентировал что-то, как в междометиях. Потом лента речи слила междометия, часто следовавшие в стандартных ситуациях друг за другом в слова, и много акцентов слилось в одно ударение. Это фиксация интонации, которую мы должны воспринимать, но изучение показывает, что там всё сложно. Интонационные понижения и повышения не подчиняются строгим правилам в речи. Акцент может приходиться на все звуки, в том числе, и согласные. В неопределённой форме глагола какое-то ударение ещё и до сих пор чувствуется на «ть». Инфинитив вообще – неспрягаемый, неизменяемый – близок междометиям. «Й» тоже акцентирован в речи. Кроме того, почти все согласные в русском языке обладают свойством мягкости. Это может быть какой-то вариант ударения в праязыке, исполняющий социальную функцию, например, как мягкая интонация.
Английское «war» (во) имеет тот же корень, что и русское слово «война», даже детское словечко «ва-ва» его имеет! «Во» и «ва» со всей очевидностью почти одно и то же. Они могли, отличались по смысловому акценту, если вспомнить, что «в» ведёт своё происхождение из «у». В одном случае, видеть боль «у» или «в» – «во», а в другом – одолевать: «ва», «уа», «ура!»
«Й» – звук вообще необычный, jot стоит в конце: «ыj». «И» – это jы. В русском языке «й» тяготеет к окончаниям, вообще не встречается в начале слов: йод – иностранное слово, «ёж» начинается с «jо». Это – согласный звук, как и «ть». «Вой», как существительное, скорей всего, – абстракция, а сначала – глагол и событие. Если согласный перед гласным ослабляет значение гласного, то после гласного усиливает: «й», «ть», действительно, это делают. Если «ы» выражает тоску, значит, «ыj» то же самое, но в более активной форме. Это может быть уже страх. Он стоит в конце слова и акцентирован, ибо дифтонг «й» воспринимается, как единый звук. «Jы» ослабляет тоску, поэтому «и» – это скорее радость. Точно также «ю» (jу) – юбилейность вместо боли. Jot после гласного активизирует смысл боли: «уй!» – «уj», «упс» – тоже самое. А самый яркий пример усиления гласного перед согласным – окликанье объекта: «эй».
Праязык пропитан тождеством: нет прилагательных, существительных, глаголов, только итоговый смысл, в том числе, у дифтонгов, потом всё это внутри слов окажется. В них смысл звуков сотрется, но усложнение смысла к концу слова сохранилось. Морфемы последовательно наращивают своё грамматическое значение. Самое неопределённое смыслоуказание имеют приставки: одни и те же для прилагательных, существительных и глаголов: исправить, исполнение, изысканный. Корни тоже принадлежат всем частям речи, но более конкретны по смыслу, а вот суффиксы дифференцированы уже строго, совершенно конкретный смысл – у окончаний. Части речи в системе языка тоже отпечатывают на себе последовательное развитие к действию, как смыслу события, но развивались, скорей всего, в обратом направлении. Конкретность события, выраженная глаголом, двинулась к обобщению в существительном и к абстрактному смыслу в прилагательном. Любое определение принадлежит множеству объектов: «чёрной» может быть и кошка, и собака. Смысл подлежащего более конкретен – это или кошка, или собака, а сказуемое выражает состояние, в котором пребывает кошка или собака: «Собака лаяла». Структура смысла застыла, как лавовый узор, в морфемах и частях речи и способна проявить себя в тексте. Междометия подчинились правилам словообразования: ахать, аукать, но ещё могут заявить о своей роли итогового смысла событий. Знаменитое место из Евгения Онегина: Татьяна – ах, а он реветь...
В тексте итоговый смысл тоже может быть представлен. Из письма М.А. Булгакова жене:
Один неизвестный служащий взглянул в мою бумажку и вдруг спрашивает испуганно:
– Позвольте!.. Это вы написали «Дни Турбиных»?
Я говорю:
– Я…
Он вытаращил глаза, выронил бумажку и воскликнул:
– Нет? Ей богу?!
Я так растерялся, что ответил:
– Честное слово!
После «честное слово» по тексту бежит идеальный звук. До него в тексте не было смысла, были только значения слов. Этот звук бежит назад, разносится, как интонация написанных слов. «Смысл – поверхностное что-то», – говорит Делёз.
Пример того же самого: «Мёртвое море знаете? Путин убил».
Если структура смысла оказывается той же самой в текстах и в междометиях, она – безусловна. В итоге, у нас возникло два претендента на роль безусловного: смысл и совесть.
Глава 2 Смысл который приходит первым & эмоции
«Когда-нибудь двадцатый век
назовут именем Делёза».
Ф. Гваттари.
«Есть лишь одна по-настоящему серьёзная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы её прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Всё остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно. Таковы условия игры: прежде всего нужно дать ответ. И если верно, как того хотел Ницше, что заслуживающий уважения философ должен служить примером, то понятна и значимость ответа – за ним последуют определённые действия. Эту очевидность чует сердце, но в неё необходимо вникнуть, чтобы сделать ясной для ума». – Этими словами Камю, будто, обращается к Делёзу, между ними возникнет даже мистическая переписка, в «Логике смысла» Делёз напишет: «Камю нет». Речь, конечно, идёт о другом… Мысли Камю об абсурде не подходят, – но возникает и мистический подтекст.
Надо сказать, что критерии Камю самые литературные: «сердце, самоубийство, «абсурд оставлен в качестве чувства». Делёз использует другие критерии: «Декарт не хочет определять человека как разумное животное, такое определение предполагает точное знание понятия «разумное» и «животное». Достоверность и доказуемость – критерии философии: «Платон определил человека, как двуногое существо без перьев. На следующий день Диоген Киник бросил в круг к его ногам ощипанного петуха».
Какое-то количество выработанных самим Делёзом понятий нам потребуется в этой работе, и мы приведём их все сразу:
Здравый смысл.
«Здравый смысл высказывается в одном направлении: он выражает требование такого порядка, согласно которому необходимо избрать одно направление и придерживаться его. Это направление легко определить – оно ведет от более дифференцированного к менее дифференцированному, от вещей к первичному огню. Стрела времени ориентирована именно по этому направлению. Более дифференцированное по необходимости выступает как прошлое. Такой порядок времени – от прошлого к будущему – соотнесен с настоящим, то есть с фазой времени, выбранной внутри рассматриваемой конкретной системы. Следовательно, здравый смысл располагает всеми условиями для выполнения своей сущностной функции – предвидения. Ясно, что предвидение было бы невозможно в ином направлении, то есть, если двигаться от менее дифференцированного к более дифференцированному – например, если бы температуры, сначала всюду одинаковые, начали бы вдруг отличаться друг от друга. Вот почему здравый смысл заново открывается в контексте термодинамики. Хотя по своим истокам он претендует на родство с высшими моделями, он существенным образом распределителен: «с одной стороны, с другой стороны» – вот его формула. Но выполняемое им распределение осуществляется так, что различие полагается с самого начала и включается в направленное движение, призванное, как считают, подавить, уравнять, аннулировать и компенсировать это различие. В этом и состоит подлинный смысл фраз: «от вещей к первичному огню» и «от миров к Богу». Такое задаваемое здравым смыслом распределение можно определить именно как фиксированное, или оседлое, распределение. Сущность здравого смысла отдаться сингулярности для того, чтобы растянуть её по всей линии обычных регулярных точек, которые зависят от сингулярности, но в то же время отклоняют и ослабляют её. В целом здравый смысл – нечто пережигающее и пищеварительное… Паровая машина и домашний скот; свойства и классы – вот живительные источники здравого смысла: это не просто факты, возникающие в то или иное время, это – вечные архетипы. Сказанное – не просто метафора; здесь увязаны воедино все смыслы терминов «свойства» и «классы». Итак, системные характеристики здравого смысла следующие: утверждение единственного направления; определение его как идущего от более дифференцированного к менее дифференцированному, от сингулярного к регулярному и от замечательного к обыкновенному; соответствующая ориентация стрелы времени – от прошлого к будущему; направляющая роль настоящего в этой ориентации; возможность предвидения на этой основе; оседлый тип распределения, вобравший все предыдущие характеристики. Здравый смысл играет главную роль в сигнификации, но не играет никакой в даровании смысла. Дело в том, что здравый смысл всегда приходит вторым, а выполняемое им оседлое распределение предполагает [прежде себя] иное распределение. Точно так же огораживание предполагает, прежде всего, наличие свободного, открытого и неограниченного пространства – ту сторону холма, например.
Общезначимый смысл.
В случае общезначимого смысла, «смысл» относится уже не к направлению, а к органу. Он называется commun, потому что это – орган, функция, способность отождествления, которая заставляет разнообразное принимать общую форму Того же Самого. Общезначимый смысл отождествляет и опознает так же, как здравый смысл предвидит. В субъективном отношении, общезначимый смысл связывает собой различные способности души и дифференцированные органы тела в совокупное единство, способное сказать «я». Одно и то же «я» воспринимает, воображает, знает, вспоминает и так далее. Одно и то же «я» дышит, спит, гуляет и ест. Язык невозможен без этого субъекта, который выражает и манифестирует себя в нём, проговаривает то, что делает. С объективной точки зрения, общезначимый смысл связывает данное разнообразие и соотносит его с единством конкретной формы объекта или с индивидуализированной формой мира. Я вижу, обоняю, пробую на вкус или касаюсь одного и того же объекта; я воспринимаю, воображаю и вспоминаю тот же самый объект… Я дышу, гуляю, просыпаюсь и засыпаю в одном и том же мире, так же, как я двигаюсь от одного объекта к другому по законам детерминированной системы. Язык невозможно представить себе вне тех тождеств, которые он обозначает. Взаимодополнительность усилий здравого смысла и общезначимого смысла очевидна. Здравый смысл не мог бы фиксировать никакого начала, конца и направления, он не мог бы распределить никакого разнообразия, если бы только не был способен выходить за собственные пределы навстречу некой инстанции, способной соотнести это разнообразие с формой субъективной самотождественности, с формой неизменного постоянства объекта или мира, которое, как предполагается, налицо от начала и до конца. И наоборот, эта форма тождества внутри общезначимого смысла оставалась бы пустой, если бы она не выступала навстречу инстанции, способной наполнить её конкретным разнообразием, которое начинается отсюда, а заканчивается там, тянется столько, сколько считается нужным для уравнивания его частей. Необходимо, чтобы свойство сразу было установлено, измерено, правильно приписано и идентифицировано. В такой взаимной дополнительности здравого смысла и общезначимого смысла запечатлен альянс между «я», миром и Богом, как предельным исходом направлений и верховным принципом тождеств.
Я первичен и самодостаточен в порядке речи, поскольку сворачивает значения, которые должны ещё сами развернуться в порядке языка. Если эти значения разрушаются, то личная идентичность утрачивается. Тогда Бог, мир, «я» становятся зыбкими образами сновидения того, кто сам едва определён…
Очевидно, что внутреннее чувство совпадает с commun. В их основе один и тот же принцип.
Смысл, который приходит первым.
Смысл, который приходит первым, отличается от здравого тем, что идёт в обе стороны… Цикличность логического предложения всегда можно нарушить, обнаружить за ним иначе организованный смысл, но дело, прежде всего, в том, что смысл хрупок настолько, что может опрокинуться в нонсенс и тем самым поставить под удар все отношения логического предложения. Сигнификация, денотация и манифестация рискуют кануть в пропасти безосновного, способного лишь пульсировать чудовищного тела. Вот почему по ту сторону третичного порядка предложения и даже вторичной организации смысла, мы предчувствуем присутствие ужасного первичного порядка, в котором сворачивается весь язык… Парадокс неопределённого регресса – источник всех остальных парадоксов – с необходимостью имеет сериальную форму. Каждое имя сначала берётся с точки зрения обозначения, которое оно осуществляет (понятия, означаемого), а затем того смысла, которое оно выражает (события, означающего), поскольку этот смысл служит в качестве денотата для другого имени. Закон, управляющий двумя сериями, гласит, что последние никогда не равнозначны. Самый важный пункт, обеспечивающий соотносительное смещение двух серий – это парадоксальный элемент. Он непрестанно циркулирует по обеим сериям, и тем обеспечивает их коммуникацию. Это двуликая инстанция, в равной степени представлена как в означающей, так и в означаемой сериях. Она – зеркало… Если термины каждой серии смещены по отношению друг к другу, то как раз потому, что они несут в себе абсолютное место. Такое место всегда определяется отстоянием термина серии от того самого элемента, который всегда смещён в двух сериях – по отношению к самому себе. Нужно сказать, что эта парадоксальная инстанция никогда не бывает там, где мы её ищем, и, наоборот, мы никогда не находим её там, где она есть. Ей не достаёт своего места, кроме того, не достаёт самоподобия, самотождественности, саморавновесия и самопроисхожения».
Делёз утверждает, что смысл, который приходит первым, является зеркальным, потому что обладает тождеством и различием одновременно. Моё зеркальное отражение ничем не отличается от меня самого, но часы с правой руки переодевает на левую, мой правый глаз в зеркале левый… По идее, сердце слева, невидимое в зеркале, тоже бьётся справа.
Сущность зеркального смысла, объединяющего в себе тождество и различие, находится за рамками представления, прямо не выражается языком, только с помощью каких-то метафорических переносов и дистанций, ибо смысл, который приходит первым, – причина языка. «Серии строго одновременны в отношении той инстанции, благодаря которой они коммуницируют, хотя и не равны. Поскольку у той инстанции две стороны, одна из которых всегда уклоняется от другой, эта инстанция должна присутствовать в качестве избытка в одной серии, которую она задаёт как означающую, и в качестве недостатка – в другой, которую она задаёт как означаемую. Такова она – незавершённая по отношению к самой себе, расщеплённая по природе, её избыток всегда отсылает к недостатку, и наоборот. Эти определения тоже относительны. То, что представляет избыток, – не что иное, как чрезвычайно подвижное пустое место. А то, чего не достаёт в другом случае, – это стремительный объект, эдакий пассажир без места, – всегда сверхштатный и всегда перемещающийся. Нет ничего более странного, чем эта двуликая вещь. Парадоксальный элемент наделяет серии смыслом, выступает в качестве их различителя, приближается к регулярным точкам и наделяет их смыслом, оказываясь скользящим между ними, как между мирами…».
Для постмодернизма характерно цитирование уже сказанного кем-то, но это – не прямое цитирование, как мы делаем сейчас, а переоткрытие. Делёз – постмодернист и структуралист. Идею структурализма высказал ещё Гегель в «Феноменологии духа» в главе «Несчастное сознание», а Делёз отыскал не замеченное. Можно найти у Делёза и немало цитирований из Канта. Это делает его философом, стремившимся разрешить проблемы классической философии.
«Грубые сходства таят ловушку. Антонен Арто иногда восстаёт на Кэррола. При чтении первого четверостишия «Бармаглота», как его переводит Арто, складывается впечатление, что первые две строчки соответствуют критериям самого Кэррола, но далее происходит соскальзывание и даже некий коренной творческий коллапс, переносящий нас в иной мир и совершенно другой язык. С ужасом мы сразу понимаем, что это язык шизофрении. Слова перегружены гортанными звуками. Тут мы в полной мере ощущаем дистанцию между языком Кэррола, излучаемым на поверхности, и языком Арто, высеченным в глубине тел. Мы ощущаем, в какой мере различна соответствующая им проблематика. «Когда продираешься сквозь дерьмо бытия и его язык, стихи неизбежно тоже воняют». У Кэррола целые куски отдают фекалиями, но это фекальность английского сноба, накручивающего в себе непристойности, как кудри на бигудях. Кэррол, по мнению Арто, не чувствует реальных проблем языка в глубине – шизофренических проблем страдания, смерти и жизни. Кэрроловские игры кажутся ему пустыми, пища – слишком мирской, а фекальность – лицемерной и благовоспитанной. Что касается фекальности, то, по словам Арто, в работах Кэррола она присутствует повсеместно. Когда Арто развивает свою серию антиномий – «быть и подчиняться, жить и существовать, действовать и думать, материя и душа, тело и разум», – то у него самого возникает ощущение необычного сходства с Кэрролом. Он объясняет это впечатление, говоря, что Кэррол протянул руку через время, чтобы обворовать, заняться плагиатом у него, Антонена Арто. Почему такое необычное сходство соседствует с радикальной и явной неприязнью? Первое, что очевидно для шизофреника, – это то, что поверхность раскололась. Изначальный аспект шизофренического тела состоит в том, что оно является неким телом-решетом. Фрейд подчёркивал эту способность шизофреника воспринимать поверхность и кожу так, как если бы они были исколоты бесчисленными маленькими дырочками. Тело в целом уже не что иное, как глубина. Всё есть тело и телесное. Всё – смесь тел и внутри тел, сплетение и взаимопроникновение. Тело – некий футляр, упакованная пища и экскременты. Так как нет поверхности, то у внутреннего и внешнего больше нет чётких границ. Тело-решето, раздробленное тело и разложившееся тело – три основных измерения шизофренического тела. При этом крушении поверхности, слово полностью теряет свой смысл. Возможно, оно сохраняет определённую силу обозначения, но эта последняя воспринимается как пустота; определённую силу манифестации, но она воспринимается как безразличие; определённое значение, но оно воспринимается как «ложь». Как бы то ни было, но слово теряет свой смысл – то есть свою способность собирать и выражать бестелесный эффект, отличный от действий и страданий тела, а также идеальное событие, отличное от его реализации в настоящем. Каждое событие реализуется пусть даже в форме галлюцинации. Каждое слово физично и воздействует на тело, проявляется в заглавных буквах, напечатанных как в коллаже, который его обездвиживает и освобождает от смысла. Но в тот момент, когда обездвиженное слово лишается своего смысла, оно раскалывается на куски, разлагается на слоги, буквы и, более того, на согласные, непосредственно воздействующие на тело, проникая в последнее и травмируя его. Фрагменты слова внедряются в тело, где формируют смесь и новое положение вещей так, как если бы они были самой громогласной, ядовитой пищей или упакованными экскрементами. Части тела определяются функцией разложенных элементов, атакующих и насилующих их. В муках этой борьбы эффект языка заменяется чистым языком-аффектом: «всё, что пишется, похабщина». Для шизофреника речь идёт не о том, чтобы переоткрыть смысл, а о том, чтобы разрушить слово, вызвать аффект и превратить болезненное страдание тела в победоносное действие, превратить подчинение в команду – при чём всегда в глубине, ниже расколотой поверхности. Победа может быть достигнута только благодаря введению слов-дыханий, слов-спазмов, где все буквенные, слоговые и фонетические значимости замещаются значимостями исключительно тоническими, которым соответствует великолепное тело – новое измерение шизофренического тела – организм без частей, работающий всецело на вдувании, дыхании, испарении и перетеканиях (высшее тело или тело без органов Арто).
Хрупкость смысла состоит в том, что у атрибута совсем иная природа, чем у телесных качеств. У события совсем иная природа, чем у действий и страданий тела. Но он вытекает из них: смысл – это результат телесных причин и смесей. Таким образом, причины всегда угрожают пресечь событие. Арто – единственный, кто достиг абсолютной глубины в литературе, кто открыл живое тело и чудовищный язык этого тела, исследовал инфра-смысл, всё ещё не известный сегодня. Мы не отдали бы и одной страницы Антонена Арто за всего Кэрролла».
Делёз высоко ценит Антонена Арто, но философия, искавшая начало мышления в лице Канта, потом в лице Гегеля, так и не нашла его в лице Делёза с помощью Арто. Делёз сам признался в этом: «Это сделает уже только не философ». Первоначальная синтетическая апперцепция Канта, чистые понятия Гегеля, которые есть неопределённые описания неизвестно чего, так как не являются понятиями по определению самого Гегеля, и, наконец, Делёз продолжил этот ряд парадоксальным элементом и «телом без органов» Арто. Нужен конкретный ответ на вопрос классической философии.
«Проблема начала в философии всегда считалась очень деликатной. Чистое «я» в «я мыслю» представляется началом только потому, что оно относит все допущения к эмпирическому «я». Таким образом, подлинного начала в философии нет. Речь идёт о том, чтобы эксплицитно выявить в понятии то, что было просто известно без понятия, имплицитно. Форма субъективного или имплицитного допущения: «всем известно…». Всем известно до понятия и дофилософским способом. Всем известно, что значит мыслить и быть… так что, когда философ говорит «я мыслю, следовательно, существую», он может предположить имплицитную общеизвестность своих посылок. Всем известно, никто не может отрицать – форма представления и речь представляющего. Философия противопоставляет «идиота» – педанту, Евдокс противостоит Эпистемону, добрая воля – слишком развитой рассудочности, человек, наделённый только своим естественным мышлением – человеку, испорченному общественными истинами своего времени. Философия встаёт на сторону идиота. Это человек без допущений. На самом деле, Евдокс и Эпистемон – один и тот же обманщик. Евдокс имеет не меньше допущений, чем Эпистемон, только у них «частная», а не «публичная» форма.
Форма естественной мысли позволяет делать вид, что философия начинает без допущений, изображать невинность – ведь она ничего не сохранила, правда, кроме главного, то есть формы речи. Философ полагает общеизвестным лишь форму представления, но у этой формы есть стихия. Эта стихия состоит в представлении мышления как естественного проявления способности. Мысль способна к истине, естественная мысль соприкасается с истиной в двойном облике доброй воли мыслителя и правдивой сущности мышления. Таким образом, самая распространённая форма представления заключена в стихии обыденного сознания как правдивая сущность и добрая воля. В этом смысле имплицитным допущением концептуального философского мышления является дофилософский, естественный, почерпнутый из чистой стихии обыденного сознания образ мышления. Согласно этому образу, мышление близко к истине, формально обладает истиной и материально желает истины. Мы можем назвать этот образ мышления догматическим или ортодоксальным; образом моральным. Когда Ницше задается вопросом о самых общих допущениях философии, он говорит, что они в основном моральные, поскольку только Мораль способна убедить нас в том, что у мышления правдивая сущность, а у мыслителя – добрая воля; только Добро может основать предполагаемое родство мышления и Истины… Если отказаться от дофилософского образа мышления, от формы представления, как элемента обыденного сознания, то у философии в союзниках останется только парадокс. Парадокс показывает, что нельзя разделить два направления, единственно возможный смысл не может быть установлен.
Узнавание и различение.
Догматический образ мышления предполагает добрую волю мыслителя в качестве доброй природы мышления и считает только ошибку – принимать ложное по природе за истинное по своей воле – своим злоключением. Но разве сама ошибка не свидетельствует, что одна единственная способность не может ошибаться? Нужно хотя бы две, действующие совместно, когда объект первой совпадает с другим объектом второй. Что такое ошибка, как не всегда ложное узнавание? Следует оценить трансцендентальную модель, включённую в имплицитный образ мышления. Это модель узнавания. Один и тот же объект можно увидеть, потрогать, вспомнить, вообразить, задумать. Тождественность объекта требует обоснования единством мыслящего субъекта, чьими модусами должны быть все остальные способности. Таков смысл cogito как начала: оно выражает единство всех способностей субъекта. «Я мыслю» – наиболее общий принцип представления.
Такая ориентация для философии очень досадна. Она уже не имеет никакой возможности осуществить разрыв с доксой. Очевидно, что акты узнавания занимают большую часть нашей повседневной жизни: «это стол», «это яблоко», но кто поверит, что, узнавая, мы уже мыслим? Мышление здесь наполнено только своим собственным образом. Оно узнаёт себя тем лучше, чем лучше узнаёт вещи: «это палец», «это стол». Но когда не узнают или затрудняются узнать, разве при этом не мыслят по-настоящему? Сомнительное не заставляет нас отказаться от точки зрения узнавания. Есть вещи сомнительные и точные. Точные вещи предполагают добрую природу мышления, понятую как идеал узнавания – мнимое сходство с истиной. В мышлении о них не хватает необходимости, странности, враждебности, то есть первичного насилия над мышлением, способного вывести его из естественного оцепенения. Существует только невольная мысль, совершенно необходимая, возникающая из случайного. Нечто, заставляющее мыслить – объект основополагающей встречи. Растёт насилие того, что заставляет мыслить. Все способности сорвались с петель. Но что такое петли, если не форма обыденного сознания, заставляющего все способности двигаться по кругу и совпадать? Вместо совпадения всех способностей, способствующего общему усилению узнавания объекта, налицо расхождения, когда каждая способность поставлена перед лицом «присущего» ей в том, что к ней сущностно относится. Разноголосица способностей, цепь натяжения, бикфордов шнур, когда каждая из них наталкивается на свой предел и получает от другой (или передаёт ей) только насилие, сталкивающее её с собственной стихией, как несвязанностью или несоответствием…
Cogito Канта.
Психология считает доказанным, что мыслящий субъект не может созерцать самого себя, но вопрос не в этом, а в том, чтобы знать, не является ли сам мыслящий субъект созерцанием, не является ли он созерцанием в самом себе, а также можно ли научиться сформировать своё поведение иначе, чем созерцая… После того как центр внимания переместился с потерпевших неудачу Сущностей (платоновских идей) на понятие смысла, философский водораздел, по-видимому, должен пройти между теми, кто связал смысл с новой трансценденцией, с новым воплощением Бога и преображёнными небесами, – и теми, кто обнаружил смысл в человеке и его безднах, во вновь открытой глубине и подземелье. Новые теологи туманных небес (небес Кенигсберга) и новые гуманисты пещер вышли на сцену от имени Бога-человека и Человека-бога как тайны смысла. Их порой трудно отличить друг от друга, но если что-то сегодня и препятствует такому различению, то прежде всего наша усталость от бесконечного выяснения, кто кого везёт: то ли осёл человека, то ли человек осла и себя самого. Более того, возникает впечатление, что на смысл наложился некий чистый контр-смысл; ибо всюду – и на небесах, и под землёй – смысл представлен как Принцип, Сокровищница, Резерв, Начало. В качестве небесного Принципа он, говорят, забыт и завуалирован, а в качестве подземного принципа – от него совершенно отказались и упоминают с отчуждением, но за забытьем и вуалью мы призваны усмотреть и восстановить смысл либо в Боге, который не был как следует понят, либо в человеке, глубины которого ещё далеко не исследованы.
Сам Делёз выбрал сторону гуманистов пещер. Он ссылается на Мелани Клейн, по мысли которой бессознательные комплексы формируются в материнской утробе: «Плод окружают звуки… в глубине шумно: хлопки, треск, скрежет, хруст, взрывы, звуки разбиваемых вдребезги внутренних объектов, кроме того – нечленораздельные и бессвязные спазмы-дыхания тела». – Звуки имеют смысл, и плод с самого начала оказывается погружён в смысловое поле, но утробное бульканье не является единственной причиной смысла. Смысл не строго связан со звуками и возникает и как-то иначе: «Наука, творчество и повседневное мышление невозможны без аналогий. Считалось, что аналогии проводят только люди и человекообразные обезьяны, затем к списку добавили гвинейских павианов Papio papio. Недавно специалисты Биологического факультета МГУ и университета Айовы (США) доказали, что выявлять сходство по аналогии способны, и серые вороны Corvus cornix». – Птицы, как известно, развиваются из яиц, а не в материнской утробе. Звуки – тела связаны со смыслом, но это – не сам смысл. «Для тел и положений вещей есть только одно время – настоящее. Среди тел нет причин и следствий. Тела сами причины друг для друга. Тела причины друг для друга, но причины чего? Они причины особых вещей совсем иной природы. Такие эффекты не тела, они «бестелесны». Они не являются ни физическими качествами, ни свойствами. Это не вещи или положения вещей, а события. Когда скальпель рассекает плоть, одно тело придаёт другому не новое качество, а атрибут. Этот атрибут всегда выражен глаголом, подразумевающим не бытие, а способ бытия: «быть порезанным». Такой способ бытия находится где-то на грани, на поверхности того бытия, чья природа не способна к изменению… Становление само является идеальным и бестелесным событием. Событие соразмерно становлению, а становление соразмерно языку. Между событиями-эффектами и самой возможностью языка имеется существенная связь…События проникают в природу вещей… прошлое и будущее делят настоящее до бесконечности каким бы малым оно ни было… Точнее сказать, такое время не бесконечно, потому что оно никогда не возвращается назад к себе. Оно – чистая прямая линия, две крайние точки которой непрестанно отдаляются друг от друга в прошлое и будущее. Событие распространяется в глубину тел, всё равно являясь чем-то поверхностным, как смысл. В качестве примера можно привести глину, обладающую свойством вязкости. Вязкость – событие на «поверхности» глины, но глину можно обжечь, и на поверхности будет другое событие – черепки древнегреческих ваз хранятся в море тысячи лет. Свойства, приобретаемые и теряемые на время, тоже события: «краснеть», «зеленеть».
По Делёзу, событие – это не бытие, а сверхбытие. Бытие двоится, как смысл, который приходит первым, – на себя и сверхбытие: со-бытие. Иммунитет не существует, как что-то материальное, кровяные тельца существуют. Иммунитет – событие. Кровяные тельца – способ бытия иммунитета, и этот способ бытия может кончиться, не смотря на наличие кровяных телец. Сингулярные, материальные корни имеет и метаболический вихрь – бесконечный ряд регулярных событий внутри тела. Галактики тоже похожи на вихри звёзд и нередко имеют плоскую форму. Видимый космос – тоже событие на плоскости какой-то сингулярности.
В чистом виде плоскость выступает, как поверхность рун, карт, монеток для гадания Ицзин, предсказывающих события. Для Делёза это прежде всего – «поверхность регистрации». Он приводит в качестве примера «капитал» – не потребляемый, не производящий, но организующий процесс производства. Целью процесса, его «божественной предпосылкой» является производство самого капитала (прибавочной стоимости). Капитал является поверхностью, которая регистрирует соединение друг с другом машин и агентов. Деньги прекрасно поддаются счёту, но капитал, как «тело без органов», стремится осуществить переход от производства производства к производству регистрации, – то есть самих денег. Это заставляет включать инфляцию и сбрасывать деньги, потому что заводит производство в тупик. Но другие основания производства, (или поверхности), которыми являются тиран или Бог, не поддающиеся столь прекрасному счёту как деньги, тоже не лишены недостатков. Считается, что проблемой социализма было произвольное ценообразование, приводившее к колоссальным затратам труда впустую, в качестве примера приводится Беломоро-Балтийский канал. Так что бытие и сверхбытие пребывают в каких-то драматических отношениях.
Чем является способность к деторождению – плоскостью или сингулярностью? Чем является бесконечный ряд регулярных точек (мамок) –сингулярностью или поверхностью этой способности? Разделение события и его плоскости может быть произведено только идеально: мамки создают сверхбытие способности, а фаллос, как парадоксальный элемент, наделяет смыслом способность мамок к деторождению. Но лучше говорить об этом обычным образом: «История начинается с самого ужасного: она начинается с театра жестокости. В этом театре грудной младенец с самого первого года жизни сразу является и сценой, и актёром, и драмой. Оральность, рот и грудь – изначальные бездонные глубины. Грудь и всё тело матери не только распадаются на хороший и плохой объекты, но они агрессивно опустошаются, рассыпаются на крошки и съедобные кусочки. Интроецирование этих частичных объектов в тело ребёнка сопровождается проецированием агрессивности на эти внутренние объекты и ре-проецированием этих объектов на материнское тело. Интроецированные кусочки подобны вредным, назойливым, взрывчатым и токсичным субстанциям, угрожающим телу ребёнка изнутри и без конца воспроизводящимся в теле матери. В результате – необходимость постоянного ре-проецирования. Вся система интроекции и проекции – это коммуникация тел в глубине и посредством глубины. Естественным продолжением оральности является каннибализм и анальность. В последнем случае частичные объекты – это экскременты, пучащие тело матери так же, как и тело ребёнка. Частицы одного всегда преследуют другое, и в этой отвратительной смеси, составляющей страдание грудного ребёнка, преследователь и преследуемый – всегда одно и то же. В этой системе рот-анус, пища-экскременты тела проваливаются сами и сталкивают другие тела в некую всеобщую выгребную яму. Мы называем этот мир интроецированных и проецированных пищеварительных и экскрементальных частичных внутренних объектов миром симулякров». Внутриутробные метаморфозы отличаются подвижностью и достигают некоего этического порога по Делёзу: «Линия, которую фаллос прочертил на поверхности – через каждую частичную поверхность, – является теперь следом кастрации, где рассеивается сам фаллос, а вместе с ним и пенис. У органа пениса уже довольно долгая история, связанная с шизоидной и депрессивной позициями. Как и все органы, пенис познал приключения глубины, где его расчленили, где он жертва и агрессор и отождествляется с ядовитыми кусками пищи или с извергаемыми экскрементами. Но ему не менее знакомы и приключения высоты, где он – будучи благотворным и хорошим органом – несёт любовь и наказание, одновременно удаляясь с тем, чтобы сформировать цельную личность или орган, соответствующий голосу, то есть объединённому идолу обоих родителей. Эдип рассеивает инфернальную власть глубины и астральную власть высоты и взывает теперь только к третьему царству: поверхности. Фаллос не врезается, а скорее, – подобно плугу, вспахивающему плодородный слой земли, – прочерчивает линию на поверхности. Эта линия, исходящая из генитальной зоны, связывает вместе все эрогенные зоны, обеспечивая, таким образом, их соединение и «взаимообмен» и сводя вместе все частичные поверхности в одну и ту же поверхность на теле ребёнка. Именно в эдиповой фаллической фазе происходит резкое различение двух родителей: матери, взятой в аспекте повреждённого тела, которое нужно залатать, и отца, взятого в аспекте хорошего объекта, который надо вернуть. Следовательно, нужно представлять себе Эдипа не только невинным, но и полным рвения и благих намерений… Появление – в случае Эдипа – намерения как этической категории имеет большое позитивное значение».
По-моему, это всё не так. Я наткнулся на врождённую совесть, при чём тут Эдип? Почему врождённый комплекс Эдипа появляется у мальчиков, а у девочек, соответственно, комплекс Электры, если сначала всякий плод – девочка? Все мальчики имеют шов на мошонке – сросшийся вход во влагалище, сама мошонка – женские половые губы, в мочевом пузыре есть рудимент матки, соски на груди мальчиков тоже есть. Почему уже сто лет – один Эдип, если он, всего лишь, зеркальное отражение комплекса Электры? Достоверно, что после внутриутробного развития ребёнок появляется на свет со сформированной эмоциональностью. Доверчивость ребёнка к миру является тоже достоверной. Кажется, мир внутриутробных симулякров, как его описывает Делёз со слов Мелани Клейн, не способен породить к себе доверие, должен порождать, скорее, страх. Мы в страх и погружены, по Делёзу, с самого начала, как в смысл.
Доверие требует какого-то объяснения. Возможно, оно возникает зеркально из страха по условию смысла, который приходит первым. В итоге нравственность получается прямо по писанию: начало мудрости – страх Божий. Как основа мышления, нравственность представлена имплицитно, потом начинает эксплицитно разворачиваться, как собственные интересы индивида, т.е. эмоционально.
Чтобы рассмотреть, как эмоциональная сфера функционирует у людей после рождения, мы обратимся к Рону Хаббарду: «Идея, с которой началась дианетика, была идея эволюции. Клетка – это «единица жизни», которая стремится выжить и только выжить. Человек – это структура из клеток. Оптимальная модель поведения для выживания была сформулирована и исследована на предмет исключений, но исключений не оказалось. Насмешки над человеческой натурой, которые часто приходится слышать, порождены тем, что люди не в состоянии отличить нерациональное поведение, вызванное некачественной информацией от нерационального поведения, имеющего другие, гораздо более серьёзные истоки… Реактивным умом наделён каждый. Этот ум выключает звуковой рикол, делает людей глухими к звуковым тональностям. Он заставляет людей заикаться. Он вызывает то, что можно обнаружить в любом списке психических заболеваний. Может наделить человека артритом, бурситом, астмой, аллергией, гайморитом, сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением и так далее по списку психосоматических заболеваний, с добавлением тех, которые находятся за пределами этого списка, как, например, обычная простуда».
По Хаббарду, реактивный ум – настоящий творец, – но творит какие-то гадости, и они возникают, будто, ниоткуда: «сделать хотел грозу, а получил козу», – и лишай впридачу.
«В банках памяти аналитического ума мы обнаружим все возможные виды ощущений. В банках памяти аналитического ума есть и чувство времени, точное, как будто организм имеет отличные часы, но и странное – с провалами. Кажется, что в отдельные моменты в банки ничего не вкладывалось. Эти провалы образуются в моменты «бессознательности» – состояния, которое вызывается наркозом, наркотиками, травмами или шоком. Если вы исследуете под гипнозом память человека об операции, которую он перенёс, сведения о ней будут единственными, которых вы не найдёте… Существует два вида записей, которые, казалось бы, должны находиться, однако отсутствуют в стандартном банке памяти: болезненные эмоции и физическая боль… Существуют некоторые доказательства в пользу электрической теории нервной системы. Когда человек испытывает боль, нервы находятся под серьёзной перегрузкой. Возможно, мозг поглощает чрезмерно сильные импульсы. Действие аналитического ума прекращается в моменты интенсивной боли. Это обстоятельство невозможности выживания. Могло ли случиться, чтобы организм оставил эту проблему неразрешённой? Биологически проблема очень сложна, и решение, возможно, было не лучшим, но оно позволяет получить серьёзную поддержку в моменты, когда организм оказывается в бессознательном состоянии. Клинические исследования доказывают научность следующих фактов: 1. на протяжении всей жизни организма ведутся записи на определённом уровне сознания, 2. записи доступны: полного отключения ума не происходит, пока человек жив. Существует некая часть ума, с которой невозможно установить контакт на уровне сознания, но которая, тем не менее, содержит информацию… Реактивный ум устроен очень грубо. Реактивный банк не сохраняет воспоминаний в том виде, как мы их себе представляем. Он записывает инграммы. Эти записи похожи на кинофильмы, если бы те содержали все ощущения света, звука, запаха, вкуса и т.д.». – Получается по Хаббарду, что инграмма имеет некий механизм, при котором схватывание воздействует на внутреннее чувство без обычного сопротивления с его стороны, казавшегося нам запаздыванием. Значит, внутреннее чувство в восприятии соотносится с недоверием, а схватывание – с доверием. Воспринимающий центр оказывается обоснован доверием и недоверием более, чем схватыванием и внутренним чувством, но мы не склонны думать, что доверие, недоверие, схватывание, внутреннее чувство – что-то разное. Это просто разные слова. «Инграмма может быть постоянно подключена в любую цепь организма, ведёт себя, как особое существо. В лабораторных исследованиях было установлено, что она обладает «неисчерпаемым» источником власти над телом. Независимо от того, сколько раз инграмма проявляется, мощность свою она сохраняет. На самом деле она становится тем сильнее, чем чаще реактивируется. Вот пример инграммы: женщине наносят удар, она падает «без сознания». Её пинают ногами, говорят, что она плохая, что у неё вообще семь пятниц на неделе. Кто-то опрокидывает стул в это время. Вода течёт из крана на кухне. Под окном проезжает машина. Инграмма содержит движущуюся запись всего: света, звука, вкуса, запаха, осязательных, органических, кинетических ощущений, того, что женщине хочется пить и в каком состоянии находятся в данный момент её суставы. Реактивный ум восхительно прост. Он оперирует только одним уравнением: А=А=А=А=А. (Кап = кап = кап = кап. – Капли воды падают на лысую голову в одно и то же место: – так китайцы с ума сводили). Если бы аналитический ум раздумывал о яблоках и червях, это, наверное, выглядело бы таким образом: одни яблоки червивы, другие нет; откусив яблоко, можно наткнуться на червя, черви оставляют в яблоках дырки. Реактивный ум, раздумывая о червях и яблоках, рассуждал бы так: яблоки являются червями, и откусыванием, и дырками в яблоках, а все черви – это яблоки, и они надкусаны… Расчёты реактивного ума женщины, которую пинали ногами: боль пинка =боли удара = перевёрнутому стулу = проезжающей мимо машине = крану на кухне = тому факту, что она притворяется = тому факту, что она нехорошая = тому факту, что она меняет свою точку зрения = тону голоса мужчины. Это сумасшествие? Совершенно верно!
Давайте рассмотрим пример работы реактивного ума на более низком уровне, – пишет далее Хаббард. – Некая рыбка заплыла на мелкое место, где вода солоноватая, жёлтая и имеет железистый привкус. Она только что схватила креветку, но большая рыба напала на неё и повредила ей хвост. Рыбёшка сумела улизнуть, но испытала физическую боль. Обладая крайне незначительными аналитическими способностями, рыбка полагается на реакцию в выборе своих действий. Хвост поправился, рыбка продолжает жить, но её снова атакует большая рыба, и опять незначительно страдает хвост. Что-то случилось, что-то внутри говорит рыбке, что она стала не осторожной в выборе своих действий. Расчёты реактивного ума рыбки, следующие: отмель = жёлтому цвету = привкусу железа = боли в хвосте = креветке во рту. Повреждение хвоста во второй раз «кий-ин» инграмму. («Кий-ин» – момент, когда окружение бодрствующего человека напоминает содержание спящей инграммы). После этого маленькая рыбка, опять заплыв в солоноватую воду, начинает немного «нервничать». Однако продолжает плыть, и когда обнаруживает, что вода к тому же стала желтоватой, всё равно не поворачивает назад. Хвост начинает немного побаливать, но она продолжает плыть. Внезапно она чувствует привкус железа в воде. Боль становится очень сильной. Рыбка исчезает со скоростью молнии, хотя никто за ней не гнался. Может быть, там было много креветок, но она всё равно уплыла. Опасное место! Этот механизм в какой-то степени помогает выживанию. Для рыбки, может быть, в нём и есть смысл. В случае с женщиной, которая была сбита с ног, вода, текущая из крана, может не подействовать на неё слишком сильно, но вода из крана плюс проезжающая мимо машина могут привести к смутному неудобству в ушибленных местах. К текущей воде и машине за окном мы добавим внезапное падение стула, и она испытает слабый шок. Теперь добавьте запах и голос человека, который её пинал – боль начинает усиливаться. Механизм говорит ей, что она находится в опасном месте, что ей надо уйти, но ведь она не рыбка, а разумное существо, и женщина остаётся. Рыбка, которая была ударена и получила инграмму, не отказалась навсегда от креветок. Полная надежды жизнь может перевесить очень большое количество боли…
Инграмма, полученная женщиной, содержит невротическое внушение. Ей сказали, что она притворщица, что она всегда меняет своё мнение. Когда инграмма рестимулирована, женщина теперь будет часто менять свои мнения. Одну женщину несколько раз сильно избили, каждый раз обвиняя, что она распущена и спит, с кем попало. Её привёл отец (она развелась к тому времени), который жаловался на то, что она страшно низко пала и неделями предаётся распутству. Она всё это подтвердила, хотя не могла понять, почему так получается. Это её сильно беспокоило. Она даже решила, что тут ничего не поделаешь. Изучение инграмм в её реактивном уме выявило длинную серию избиений с подобным содержанием. Для активизации инграммы необходим «кий-ин». Когда женщина была усталой, мужчина угрожал снова ударить её и всячески обзывал. Она воспринимала это на сознательном уровне, как «душевно болезненный» для неё опыт. Он и был таковым, потому что под ним невидимо существовала настоящая физическая боль. Этот инцидент называется «лок» (замок). Здесь действует память из стандартных банков, но действует новым способом. Реактивный ум не утруждает себя точностью отсчёта времени. Когда происходит «кий-ин», этот ум не видит разницы между возрастом в один год и в девяносто». Устойчивость инграмм в течение максимального срока человеческой жизни не соответствует изменчивости, чего угодно. И такое «божество», как инграмма требует к себе внимания. Хаббард указывает, что не претендует на создание теории. Ему достаточно, что дианетика работает; и надо сказать, что он вполне здраво мыслит: – на основании чего, например, им болезненные эмоции и физическая боль используются, как что-то разное? Что такое физическая боль, если не эмоции? Кроме того, повторение связано не только с инграммами. Всякое узнавание существует, как повторение. «Думать не надо, пока мы узнаём». И, узнавая мир, мы чувствуем себя, как рыбка в воде. Это – тождество. Другими словами, вся жизнь сознания похожа на атмосферу, в которой работает реактивный ум.
Для теории можно оставить эмоции… Они нас интересуют. Ещё Хаббард ввёл понятие вэйлансов, которое позволяет определять всякую личность, как множественную. Это тоже будет полезно…
В качестве образного примера сравним кожу организма с сознанием. Как кожа обтягивает собой организм, так и сознание – бессознательное. Эмоции – клетки для сознания и бессознательного. Кожа тоже состоит из эпителия и прочих подробностей, но, как из некой биологической материи, сингулярности для единого организма. Благодаря описанию Хаббарда, эмоции – клетки, в том числе, и для инграмм.
Сделаем допущение, что бессознательные эмоции в качестве инграмм выступают в роли творца. Они возведены в некую степень, которая позволяет им творить физические и психические феномены, пусть это лишаи, паранойя и шизофрения. Мы наделим эмоции высшей властью.
Если боль предвосхищается до своего появления, – сформированное эмоциями сознание опережающе отражает действительность. Это – основная функция сознания, но отражаемая реальностью оказывается воображаемой. Наше сознательное и бессознательное погружает нас в некую иллюзию. Какова реальность на самом деле, как и рыбка Хаббарда, мы не знаем, – и несовпадение трансцендентального и эмпирического пространства и времени может быть причиной этого. Известно, что эмоции полярны. Классический пример – радость сквозь слёзы. Оба полюса эмоций в этот момент себя проявляют. Мы можем наблюдать, как это происходит, в фильме «Ночи Кабирии» Федерико Феллини. Вокруг Кабирии вдруг возникла весёлая компания с музыкантом и танцорами. Кабирия улыбается и роняет слёзы одновременно, лишившись только что всего своего достояния, всех надежд на счастье и едва не лишившись жизни. Она только что отошла от обрыва, в который её хотел столкнуть жених, но свадьба – плод её желания. В этот момент возникают улыбка и слёзы одновременно. В этот момент – себя то проявляет, на что никакую маску не наденешь. Доверием к своей свадьбе Кабирия сотворила «свадьбу» вокруг себя, граница объективного мира растворилась. Страсти – они, как карты, – то ли случайно, то ли закономерно на них изображён зеркально перевёрнутый рисунок. Это – смысл, который приходит первым.
Единый Голос Бытия и эмоции структурно соответствуют смыслу, который приходит первым. Эмоции и «моцион» – однокоренные слова, – но эмоции всегда во множественном числе. Будто, это ножницы или брюки. Потому что полюса эмоций обладают со-бытием, а не разным бытием, безразличным друг к другу.
Обычно люди или плачут, или смеются. Эмоции выражают только один свой полюс, это принято называть проявлением эмоций: «ха! -ха! -ха!». Выраженный полюс повторяется, но резонанс рано или поздно затухает. Только в момент предельного эмоционального напряжения оба полюса проявляют себя, как у Кабирии.
Причиной поведения рыбки, на самом деле, тоже были эмоции… Боль в хвосте никакому повреждению не соответствует. Она не имеет реальной причины, хоть и трудно утверждать, что такая боль не реальна, но, если рассуждать строго, рыбка отражает иллюзорную боль, её молниеносное исчезновение – драматизация, ничем не отличающаяся от драматизации женщины, которую пинали ногами и которая кричит на других женщин и детей, демонстрируя, как свой собственный, победный вэйланс бившего её мужчины. В этот момент женщина – множественная личность. Рыбка Хаббарда тоже в каком-то смысле слова множественная личность, если то ест креветок, то не ест. Если бы рыбка только бы ела креветок, то ничем бы не отличалась от грибов, которые поглощают из почвы питательные вещества и выделяют мочевину, а, имея рефлекс, который был ею благоприобретён, она хотя бы, автомат.
Мы стремимся подчеркнуть фундаментальность эмоций. Если на нас похожа рыбка Хаббарда, тем более, звери на нас похожи, а мы – на них.
Когда в Индии в стае волков нашли взрослую девочку, её не смогли ничему научить. Она срывала с себя одежду, не ела из тарелки, спала на полу, свернувшись клубком, восприняв внутреннее чувство от волков. Домашние животные не являются ли примером того же самого, только в обратную сторону: кошки и собаки, стоящие на задних лапах, не подражают ли нам? Сюда же следует включить и дрессированных хищников.
«Мяу!» – речь кошек с людьми. Друг с другом они воют. Иногда котята, ещё не умеющие мяукать, воспроизводят этот вой в своём «Мя-я!». Собака лает в сторону хозяина тоже иначе, чем в сторону прохожих: Аф! Аф! – и, если судить по высоте лая, находится на пороге истерики от отсутствия внимания к себе. Её лай на чужих содержит грозный хрип, хотя «слово» в целом заканчивается так же, как обращённое к хозяину. Между собой собаки общаются тоже визгом и рычанием: у них интонационное общение, как у шизофреников. И всегда можно определить по высоте лая, какая из собак проигрывает. В итоге она переходит на высокий визг: для животных и людей интонация – смыслоуказание. Пса, который визжит, другие собаки уже не грызут. Он признал поражение.
«А-у-у-у!», – вой волков на луну звучит прямо, как междометие, но не в лесу же они заблудились, эти волки?! Процесс объединения человека и зверей продолжается и до сих пор: есть снимок, где женщина уткнулась в гриву льва. Морда льва смялась и выражает ласку к этой голове. Мощные лапы лежат сквозь прутья клетки на плечах женщины. Можно найти видео, где львица вскакивает на парня и обнимает лапами, пряча когти.
Возникновение нравственности имеет не видовые корни, а, скорее, коллективные. Если мы друг другу нравимся, то друг друга и не едим, а «употребляем» как-то иначе. Нравственность свойственна всему живому, шагнула за рамки видов: кошки и собаки друг друга не любят, но ведут себя иначе рядом с человеком. Это касается не только их: есть видео, где у кота из миски клюёт попугай, время от времени кот бьёт его лапой по голове, не выпуская когтей, попугай теряет ориентацию, но, вернувшись в сознание, снова клюёт. По-хорошему, попугай сам еда для кошки, но человеку это не понравится, – и кот понимает, животные чувствуют вожаков.
У сумасшедших хозяев – сумасшедшие животные. Они настроились на вожаков. Маленькие собачки зрелых хозяек тявкают без повода на мужчин и выдают «тайну»: «гад! гад! гад!». Кошки ведут себя иначе, чем собаки, но у сумасшедших хозяев тоже могут царапать гостей когтями…
Если межвидовое сознание объединяется в «разношёрстный» коллектив, это свидетельство какой-то общей плоскости или сингулярности, на которой это событие возможно.
У меня был котёнок, который бегал по квартире, не обращая внимания на блюдце с едой, и мне казалось, что блюдце всегда стоит полное и только напрасно облеплено шерстью с его морды. Мыть ему ещё и блюдце было выше моих сил, но меня беспокоил только его аппетит. Скоро я заметил, что он бежит к нему и, нервно шевеля ушами, сжирает всё, что там есть, когда я сажусь за стол и достаю что-нибудь из холодильника… Котёнок смотрел на меня, как на объедалу: у меня появился способ накормить негодяя.
Ницше просто определяет сознание моего котёнка, когда пишет: «В прежние времена видели во всём происходящем намерение, это наша старейшая привычка. Имеет ли её также и животное? Как живущее, не принуждено ли, и оно толковать вещи по своему образу? Мера того, что вообще доходит до нашего сознания, находится в полнейшей зависимости от грубой полезности осознания». Действительно, поведение котёнка адекватно представляемой им действительности. Оно даже логично, на свой лад содержит оценку моих намерений и опережающе отражает действительность.
Рефлексы на основе эмоциональной оценки, в принципе, всем понятны. Это выглядит, как зачаток мыслей. И у животных, не замороченных, как мы, эти «мысли» даже острей проникают в суть трансцендентного пространства и времени. В одном рассказе Джека Лондона собака почувствовала намерение хозяина, который надумал её убить, чтобы сунуть в её тёплое тело руки и согреть их. У него перестали шевелиться пальцы на морозе, чтобы развести костёр. Она отбегала, хоть и не убегала совсем. Какое-то представления о себе животных мы тоже можем читать. Собака, будто, всё отождествляет реактивным умом, принимает побои, еду и цепь от хозяина. Он её кормит. Всё остальное этому равно, но, кажется, что Хаббард описывает реактивный ум слишком карикатурно. Собака принимает побои с визгом. Это эмоционально обосновано, а не только реактивное отождествлено. В её отождествлениях есть и различение. Хозяин привязал её, если не накормит, собаке – конец – надо принимать от хозяина всё и заискивать перед ним. Это заискивание выглядит, как слепая преданность. Так же резонно она бросается с хриплым лаем на незнакомца, опережающе приводя себя в боевую форму. Незнакомец может напасть, а с цепи не убежать. Лай ещё и заводит собаку, как сказанные слова, накручивает ей эмоции, но, в сущности, собака «врёт», когда рвётся с цепи и брешет. Она разотождествляется с собственным поведением, если не сидит на цепи и обращает внимания на прохожих. Есть свобода манёвра. Собака знает, как вести себя в обществе.
Можно согласиться с Ницше, когда собака бегает по улице, то мыслит на основании пользы для себя того или иного поведения… Точно так же мыслит, и сидя на цепи. Маленькая собачка в стае первой начинает тявкать на потенциальную жертву всей стаи, повышая себе рейтинг. Стая должна получать от неё пользу. В жизни собаки есть смысл в такой момент. Он собирается в точку, наполненную энергией, и выражает себя в движении.
И чем в фотостудии я отличаюсь от собачки, которая места себе не находит, хочу заглянуть за ширму, убедиться, что там нет доктора с повязкой на лице и большим уколом в руках. Только на всякий случай, я хочу быть готов, что это больница. Такая готовность мне самому неприятна. Вообще нежелательно, чтобы это была больница. Но меня не должны застать врасплох. Ещё хуже, если я не буду мобилизован. В то же время я подчиняюсь реакции вожаков.
Вообще, всякое мышление шизофренически распадается. Там, где кормят птиц, они лезут под ноги, но во время ссор поведение людей, зверей и птиц опять скатывается к тождествам. Повторение одного и того же – это схема ссоры:
– Дай сюда!
– Нет!
– Дай сюда!
– Нет!
– Дай сюда!!!
Когда дело дошло до эмоций: «Гав! гав! гав!». – или хлопанье крыльев.
Кажется, мы должны различать рациональную и эмоциональную определённость. Эмоции отрицают рациональность, но не отрицают определённость – присущность одного эмоционального полюса. Вроде бы, нет ничего проще тождеств, но в логике закон тождества действует в случае достаточного основания: цветы сегодня станут ягодами завтра, и тождество нарушается. Эмоциональные полюса настаивают, что они всегда тождество: А=А.
Эмоции – тождество, различающее себя от противоположного полюса, отрицательное единство, взаимное исключение своих определений: смех и слёзы…
Можно указать множество тождеств в поведении детей. Они тащат всё в рот, в начале жизни ребёнок не имеет других представлений, кроме еды, поэтому всё – еда…
Малыш сидит на руках у отца: «Это – яблоко», – говорит отец. – «Это – тыблако!», – повторяет малыш. Когда ты говоришь «я», значит это – ты.
Маленькая девочка, закованная в комбинезон, движется в сторону родителей, хнычет и просится на ручки. Родители учат её самостоятельности, на ручки не берут. Я прохожу мимо. Мокрые глаза малышки смотрят на меня вопросительно: «Может, я возьму?». Для неё нет разницы между папой и дядей, но малютка анализирует ситуацию самостоятельно. Просто родители эту самостоятельность по-своему истолковывают, предлагая самостоятельно делать то, что они скажут. Социальное воспитание начинается в очень-очень нежном возрасте, не смотря на любовь к чадам.
Всё, что умеют дети, – проявлять эмоции. Они легко впадают в них: легко плачут и легко успокаиваются. Тождество эмоций –доступная детям определённость, и, кажется, она намного лучше рациональной, как только эмоции проходят, так и тождество кончается. Рациональной определённости нужно ещё учиться. Детей начинают учить вести себя рационально или социально, запрещая эмоции… Детские эмоции – самое честное, – но после того, как маленькие дети научились говорить, с этой честностью что-то происходит…
Девочка идёт из садика с негодующе молчащей бабушкой, в каждом слове малышки новая интонация: «Я знаю. Мне нельзя есть снег!». – Её манят тождества младенца, но, как только смысл выражен в словах, он превращается в какую-то ложь, затушёвывающую эмоциональность поступка. Кажется, смысл стал лжив, потому что стал обусловлен, т.е. выражен в словах. Дети внимательно следят за кукольным представлением. Они прикованы к интонации персонажей. Пустота разыгрываемых сцен ускользает от них, но это не имеет значения. Дети набираются опыта выражать обусловленный смысл: – так что детское поведение – самое честное, пока дети маленькие и ещё не умеют говорить…
Возможность себя выражать в словах сразу же вступает в борьбу за место эмоций под солнцем. Всё это идёт параллельным курсом – освоение речи, запрет эмоций, и борьба с ним в довольно сложной личной позиции. Массовый характер этой сложной личной позиции делает её социальным явлением, и, если невинные дети лгут, как только научились говорить, – это что-то объективное… Смысл эмоций, разделённых на два полюса, вообще не имеет другой возможности выражать себя, кроме как «лживо». Всегда выражается только один полюс. Смысл, выраженный в словах, по этой причине оказывается тоже лживым. И как хорошо слова складываются: условность – сами слова, а ложь – сама условность. Слова – ложь.
Непосредственно смысл выражает интонация. Обычно люди говорят с какой-то интонацией. Она является индикатором сложной личной позиции, иногда слова могут быть хрипло артикулированы. В этот момент человек говорит что-то, обычно не выражаемое им вслух. Или по правилу об этом принято молчать. Можно подразумевать, сказать в каких-то скобках или по отношению к другим, но не по отношению к себе. Увы, такие задавленные эмоции есть у каждого. А. Пугачёва выразила однажды мысль: «С человеком, который разбогател, нужно знакомиться заново». – Изменение в положении по отношению к общему позволяет приглушённым эмоциям вырваться «на оперативный простор». Это будет, действительно, незнакомый человек, какие-то «движения» из него полезут…
Если в какой-то реплике вдруг становится выше обычного правдивой интонации, – это точно сознательная ложь. Ложью может быть и молчание. По сути, это – тоже интонация. Но иногда – хоть вслух, хоть молча – лгать мешает совесть, портит интонацию, если речь идёт о голосе, более того, в голосе может исчезнуть всякая интонация в момент выражения подавленных эмоций. Но смысла, как раз, будет достаточно. С эмоциями вообще не просто. Действуя наперекор себе, они иногда мешают лгать, но девочка, говорившая бабушке: «Я знаю. Мне нельзя есть снег», – лгала хорошо. Интонации в её словах было достаточно. И она говорила то, что ожидалось бабушкой. В итоге, бабушка негодующе молчала. Ребёнок имел опасения, но эмоции не были подавлены. Девочка всё делала правильно.
Я тоже лгал хорошо, когда «раскаялся», и когда «понял», как летит ракета… Мой представляемый образ тоже совпадал с тем, что ожидали от меня родители, мама и папа «истолковывали» меня, сами находили в себе нужное представление, хоть я ни с чем и не «совпадал». Может, их совесть парализовывала преследование моей лжи? Они вдруг испытали недоверие к себе, как негодующая бабушка? Значит, совесть тоже бывает, парализована, вернее, реализует себя, как недоверие к себе. Чистая эмоциональность её парализует. Подавление ребёнка культивируется взрослыми договорённостью с эмоциональностью ребёнка…
Ревность моей собственной совести тоже подавляла не всякую ложь. Моя совесть выслеживает рациональную ложь – и свою и чужую, –но ложь эмоций – своя и чужая – проходит сквозь совесть, как вода сквозь сито… Когда мне было шестнадцать лет, я смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и весьма условные события фильма принимал, как возможные, более того, это кино тренировало мне фантазию, в трансцендентальном пространстве и времени я комбинировал образы. Моя рациональность была бы выше кукольного представления, но условности фильма оставались мне незаметны вызывали доверие. Моя совесть в виде ревности к правде «спала» и ничего не замечала. Я проявляю и терпение к эмоциональной лжи других. Она всегда в каком-то смысле художественная. Я прощаю её даже после того, как заметил.
Совесть, кажется, выступает на стороне эмоций… Между нею и рациональностью складываются отношения, требующие к себе внимания. Откуда вообще у меня появилась рациональность, какие у неё корни в моей душе?
Воспитание детей начинается с требования вести себя по правилам, рационально обоснованным, и без непосредственности. Эти условности – ложь, а ложь обладает изменчивостью, как и эмоции. Может, в этом что-то есть? Эмоции – определённость, чаще, чем неопределённость. Они – не условность, но их трансцендентальность превращается в эмпирическую реальность и свою противоположность. Безусловность становится похожа на условность, рациональность – на эмоциональность, изменчивость становится неизменностью. Вообще, всё на всё похоже. Можно сказать, что эмоции отличаются от рациональности только градусом выражения, кипят, а рациональность, тоже имеющая смысл одного полюса, – нет.
Став подростками, дети проявляют эмоции между собой, но совсем другая игра мальчиков с девочками, третья – со взрослыми. Таким образом, тождество себе самому покидает человека. Личность покрывается масками. Мы занимаемся обыденными делами: умываемся, завтракаем или идём на работу. В это время наша нижняя губа рефлекторно поджата. Эмоции подавлены. Впечатления жизни пришли к общему знаменателю.
Мама с маленьким сыном стоит в очереди к кассе. Малыш с размаху бьёт по длинным палкам смешариков, которые шуршат. Мама говорит: «Не трогай! Я тебе уже купила». Ребёнок, кажется, понимает слова, тихо постоял какое-то время. Потом снова бьёт по смешарикам. Мама снова говорит: «Не трогай!». Всё-таки он бьёт в третий раз. Я наклоняюсь к нему с улыбкой: – делать в очереди всё равно нечего… Над проглоченной нижней губой детские глаза смотрят на меня внимательно. Потом малыш трогает мою бороду…
Сверху на нас хихикнула мама. Ну, ничего нельзя сделать – ни бороду потрогать, ни по смешарикам ударить, чтобы чего-нибудь не услышать. Нужно проглотить нижнюю губу, чтобы на что-нибудь решиться.
Мир противоречит нам… Я сознательно наткнулся на мысль об этом перманентном противоречии, когда читал первый раз в жизни, как Берлиоз жестикулируя, обрушился за спину иностранца: «Не противоречь! Не противоречь!». Тогда дзэн-буддистское просветление, как алмазная пуля, пронзило мой мозг. Я осознал постоянное условие своей жизни. Мне не удавалось ничего говорить, не противореча, и я не слышал других слов, обращенных к себе. Осознание этого факта позволило измениться, но мир остался прежним… Какие-то постоянные опасения доводят человека до ощущения тошноты. Например, Антуан Рокантен в «Тошноте» у Сартра не смог поднять тетрадный листок с земли. Ему хотелось помять его в руках, отрывая кусочки, и послушать, как они трещат… Он испугался, что покажется странным.
Антуан выташнивает из себя раба, как Чехов или Горький выжимали по капле, а Галич требовал себе подставить уже корыто или ведро, но мы не критикой человечества занимаемся…
Наше сознание и разум пребывают в странной ситуации, имея трансцендентальную природу и находясь в эмпирической реальности. Врождённая привычка эмоций – всё отождествлять. Их полюса тождественны друг другу. В то же время, они – разное, и это доставляет страдание… Если вербализовать страдание, как зло, мы окажемся в мире предвечных представлений. Его моменты – рай и ад, как у эмоциональных полюсов. Мир предвечных представлений – область акцентов, увеличивших свой масштаб до космических размеров. Предвечным является мир наших надежд и доверия, одновременно страха и недоверия. Этот мир фабрикует внешний мир симулякров, как копий, а в образцах – смысл созерцаемой реальности, который сохраняет трансцендентальную природу в эмпирической реальности.
Еврейская кабалистика гласит: «Зла – нет. Зло – это не востребованное добро». Действительно, после того, как эмоции были выражены, осталась их невыраженная половина… Эта невыраженная часть проявит себя позже, как объективная реальность, которую мы не учли. Наша мысль какое-то время объединяла полюса, потом остановилась, если для здравого смысла было достаточно. Полюс смысла, который остался не выражен, потом нанесёт непредвиденный удар…
Выраженный смысл всегда – объективная ложь. Это – всего лишь половина смысла.
Смысл воспроизводится в языке буквально, выраженный в словах означает обусловленный. Буквальное указание можно увидеть и в слове темперамент, который в отличие от характера является врождённым. Темп – характеристика музыкальная, спортивная, эмоциональная; – темперамент определяет продолжительность и силу эмоций, указывает, что они сродни звукам, тем самым, указывает на их структурную связь с единым Голосом Бытия… Кажется, что кто-то топал впереди нас и всему давал имена. Его заметил и Делёз во французском языке, назвав «тёмным предшественником».
Глава 3 Совесть Нарцисс &логика
Люди ведут себя рационально
по отношению к толстым книгам
и откладывают их, предпочитая
короткие, поверхностные песенки.
(Свами Матхама).
Ницше пишет иронически: «Моральные явления занимали меня как загадка. Как понимать то обстоятельство, что благо ближнего должно иметь для меня более высокую ценность, чем моё собственное? Но что сам ближний должен ценить ценность своего блага иначе, чем я, а именно: он должен как раз ставить моё благо выше своего? Что значит «ты должен», рассматриваемое как нечто «данное» даже философами? Это имеет смысл как выражение инстинкта общественности, основанного на оценке вещей, полагающей, что отдельный индивид имеет вообще мало значения, все же вместе очень большое. Это есть известного рода упражнение в умении устремлять свой взгляд в определённом направлении, воля к оптике, которая не позволяла бы видеть самого себя…». В дальнейшем слово оптика станет у Ницше любимым, но начало мышления он не исследовал. Нам самим придётся делать это неизбежное исследование.
В детстве я играл в карты с бабкой. Иногда с нами играл Лузин, по неписанному распорядку он сидел за столом на подставленной табурете, как самый незаинтересованный в игре; вначале принимал много карт, а потом всех обыгрывал… Я сидел между столом и стенкой на лавке. Если Тамара играла с нами, то сидела рядом со мной. Над головой у нас с ней висела икона Богоматери, украшенная белыми занавесками. Это был ещё сейф. Бабка хранила за иконой домовую книгу и свой паспорт. Я несколько раз видел, как она прячет их туда, но никогда не приходило в голову самому залезть и взглянуть на чёрную, как голенище, книгу, казавшуюся старинной. Бабка говорила, что лазить туда нельзя, и как-то сразу забывалось, что она там есть. Иногда за игрой бабка говорила, что на деньги играть нельзя. Таким образом, мне стало известно, что на деньги играть можно… без бабки бы в голову не пришло. Я всё равно пропускал её слова мимо ушей, деньги для меня ещё не были предметом манипуляций. Однако, когда я увидел такую игру в первый раз, то испугался, как преступления: способность бабки к внушению подтверждает себя.
Пацаны тогда собрались в необычном месте, никогда не привлекавшем наше внимание, но укрытом от посторонних взглядов густым палисадником. Когда я подошёл, Саня Семёнов посмотрел на меня мрачно. Никто не ответил на приветствие. Пацаны, сидя на завалинке, с непроницаемыми лицами играли в карты. Не смотря на немое предложение уйти, я остался. Скоро пришла очередь удивиться ещё раз – это был не «дурак». По три карты раздавалось, и на завалинке лежали копейки… «Туз-король – небитая карта, КВД – небитая карта!». Я старался запомнить: «А если к одному придёт КВД, а к другому туз-король?!», – спросил, ни к кому не обращаясь. Саня Семёнов снизошёл до ответа: «Они не могут прийти вместе». Это была какая-то закономерность…
Куда делось то время, когда три копейки и пять копеек имели смысл? На кону стояли десятики, пятнатики, двадцатики, бумажный рубль среди мелочи был вообще сказка, – кон с ним только что увел Саня Суворов. Мы сидели у Любки на крыше и играли в ази. Вдруг пацаны стали хватать копейки с ящика без всяких правил. Карты тоже исчезли. Я с некоторым опозданием заметил, что Любка, тихо матерясь, зачем-то, завалилась на свои сени. Глаза ей слепило солнце. Она не могла нас видеть, тем не менее, кто-то уже исчез через самую узкую дырку в крыше… Я понял: «Мы срываемся!». Вся толпа сунулась к самой большой дыре, но с земли, как сирена, взвыл голос Любкиного сожителя: «Все в крышу-у-у!!!». Это была засада. Мне бы не составило труда прыгнуть на забор, пробежать подошвами по его кромке над головой у тщедушного Любкиного сожителя в вечной красной рубахе, но в волнении можно было оступиться и сорваться ему в лапы. Это было бы неприятно… Дыр в Любкиной крыше, слава богу, хватало, даже не последним я спрыгнул через ту же узкую на улицу, перебежал дорогу и остановился. Это же сделали Сашка Суворов и Вовчик Шифанов. Никто Любку не боялся. Её тоже волновала не наша нравственность, а пролом потолка. Почему-то, все взрослые боятся этого, так как ничего не случилось, мы вели себя хладнокровно.
В это время из своего дома вышел Сашка Семёнов, как ни в чём не бывало, Любка была его тёткой и набросилась на него с криком: «Я всё расскажу отцу!». – Ты меня видела! – орал Сашка в ответ. – Ты меня видела?!
Потом он рассказал нам, как первым спрыгнул на улицу через узкую дырку и рванул со всех ног. Любка в это время сидела на сенках и не могла его не заметить на улице. Сожитель был в ограде и тоже не видел, но, пока мы прыгали на улицу, он стал обегать вокруг дома. Когда его лай к воротам приблизился, Сашка прыгнул на забор и исчез… Тут меня осенило, что мы могли играть у меня дома!
Так потом и было, но уже с одноклассниками. Мы встречались в школе, на первой перемене договаривались идти играть и после второго урока шли ко мне. Нас иногда захватывала мать, возвращаясь с работы. Карты и деньги исчезали, пацаны рассасывались… Пребывая глубоко в себе, мать ничего не замечала. Это был счастливый момент моей жизни, но в итоге я окончил школу с тройками. Барану школа тоже выдала аттестат, а Хлебе, всё-таки, справку. На нём школа поставила крест за условный срок за грабежи…
Увлечение игрой продолжилось и после школы. Я стал играть краплёными и подтасовывать. Сложней всего было передёргивать, но мне, почему-то, казалось самым неудобным подтасовывать, всегда приходилось прорываться, как сквозь колючую проволоку. Казалось, все уставились на мои руки, и прекрасно понимают, что я делаю. Не составляло труда понять, что подтасовка тонет в колоде, она не доказуема, но что-то заставляло не додумывать до конца эту мысль, за спиной, будто, загорались огромные глаза и мешали действовать, но, почему-то, я не стеснялся передёргивать, если доводил подтасовку до конца, хотя горят именно на вольте. На работе рядом со мной сидел хромой парень, который тоже играл в карты. Во время общей болтовни однажды выяснилось, что Хромой не верит, что человек произошёл от обезьяны. Его не могли переубедить. Рядом с нами сидел один баптист, он тоже не верил, что человек произошёл от обезьяны, говорил, что от Бога, но Хромой не был верующим. Его оригинальность была вызывающей; наконец, когда спор дошёл до сугубой схоластики, Хромой согласился на компромисс: «Все произошли от обезьяны, а он – нет». «От кого ты тогда произошёл?». – Хромой не знал. Однажды у него оказалось желание и деньги играть. Инициатива тоже исходила от него. Я взял деньги и крапленые карты у Кота с обещанием поделить выигрыш, мы собирались играть в буру, и краплёными картами я мог обыграть Хромого, даже если бы не везло, но стал проигрывать без всякого намерения, со своей стороны. Это было даже правильно – сначала немного проиграть. Я не сосредоточился сразу. Как-то так получилось, что Хромой быстро выиграл все деньги. Я не давал себе быть осторожным, инициативно заходил в сомнительных случаях, а ему везло. На мою даму находился король той же масти. Кот разочаровался во мне на всю оставшуюся жизнь. Я тоже был собой ошарашен. Может, я вообще какой-то неловкий?
Как-то мне достался приятель до кучи, – вместе с девчонками приехал в наш город на практику. Я познакомился с девчонками. Этот парень играл в буру, и мне удавалось играть против него на пяти картах вместо трёх. Один раз я сбросил две карты себе в очки, чтобы предъявить «буру», руками пришлось двигать у него на глазах. Люди, как правило, ни черта не видят…
Нельзя сказать, чтобы совесть тогда сидела смирно, но мне удалось как-то прорваться. Однако каждый день прорываться сквозь колючую проволоку было достаточно противно, и карты пришлось бросить. Теперь я играю в рулетку… Чтобы прокомментировать моё недодумывание мыслей до конца при игре в карты против других людей, можно сослаться на Милтона Эриксона. Это трансовое состояние – недодумывание мыслей до конца – эриксоновский или цыганский гипноз. Сон с открытыми глазами возникает в результате когнитивной перегрузки и запутывания. («Человек из февраля»). Трансовое состояние вырубает логику, но фокус состоит в том, что рядом нет Эриксона. Когнитивную перегрузку обеспечивает моя совесть, другие люди должны только присутствовать.
По определению Ницше, совесть является честностью и преследует интересы другого, – на эту загадку Ницше отказался искать ответ. Своим сознанием Гадкого Утенка я тоже обязан совести: она не хотела, чтобы я врал, когда не плакал… Я, оказывается, обманывал маму, подавляя эмоции в угоду её интонации. Такая вот логика у совести… Интонация доносила до меня смысл окружающего мира, и я «врал», что колючую шапку можно терпеть, скрывал свои мысли от мамы… Врождённая эмоциональность хотела воздействовать на моё поведение, мне в душу гадила за то, что я заставлял себя не плакать. Это и не удивительно, что она себя тоже плохо чувствовала и маркировала Гадким Утёнком взявшуюся у меня откуда-то рациональность, боролась с ней…Когда я вырос, совесть уже мешала мне играть в карты, со стороны моей эмоциональности перешла на сторону «другого».
Нужно обратиться к тому случаю с колючей шапкой ещё раз.
Мой центр восприятия имел возможность выбирать из внутреннего и внешнего. На основе своего опыта я выбрал из внешнего – из интонации мамы. Мой воспринимающий центр мог быть эмоционально выражен туда, где находилась интонация, т.е. во вне, но не был выражен. Эмоции остались внутри, я вёл себя рационально. Опять тот же вопрос: откуда у меня вообще взялась рациональность в два года, если врождённой является эмоциональность?
Откуда рациональность, которая на равных борется с тем, что есть врождённое? Надо полагать, что рациональность – это противоположный полюс эмоциональности, её зеркальное отражение. Структура эмоций повторяет структуру смысла, который приходит первым, но этот смысл начинает обретать другой масштаб. Если эмоциональность отождествить с внутренним, а рациональность с внешним, то мои эмоции, стремятся к внешнему самовыражению, а там уже сидит рациональность. По Канту, внешнее – пространственная характеристика. Я должен плакать. Я этого не делаю. Я – Гадкий Утёнок внутри, – выраженная рациональность внешне не бросается в глаза. Мама господствует над внешним событием, когда тянет меня за руку. Я даю на это какое-то рациональное согласие, в моём случае в момент накалённости эмоций эмоциональность оказывается спрятанной, как «Ы» в согласных. Мой центр восприятия имеет возможность созерцать внутреннее и внешнее… Они для него по какую-то одну сторону, и моя сиюминутная эмоциональность против того, что она видит. В данном случае сиюминутность – это схватывание. Следовательно, внутреннее чувство является рациональностью. Как мы выяснили, внутреннее чувство и схватывание в своей основе содержат недоверие, останавливающее время, как трансцендентальную идеальность, и доверие – время, видимо, наоборот, ускоряющее. Доверие и недоверие можно разделить на пространственную характеристику, как внешнее и внутреннее, но слова начинают терять смысл. Эмпирическая реальность начинает путать трансцендентальную идеальность. Воспринимающий центр является трансцендентальной идеальностью, но оказывается внешней эмпирической реальностью (практикой) и внутренним опытом этой реальности. Его трансцендентальная идеальность оказывается заслонена, как внешним, так и внутренним образом, его опытное знание – сразу внешнее и внутреннее, но эта одновременность имеет отношение уже не пространству, (внутри и снаружи), которое мы вправе рассматривать, как эмпирическое пространство, а к трансцендентальному времени. Таким образом, у нас куда-то делось из центра восприятия трансцендентальное пространство (пустое) и эмпирическое время, которое течёт с одинаковой скоростью (часы, минуты, секунды). Трансцендентальное и эмпирическое в воспринимающем центре заслонили друг друга наполовину.
Мой отказ плакать – это перевод эмоций в рациональную отложенность на основе моего опыта. Я откладываю эмоции, стремясь к благополучию не прямо сейчас, но тоже в ближайшее время. Я не хочу сделать себе хуже. Эта борьба за акцент на рациональности вместо сиюминутной эмоциональности – импровизация чья? Моя сиюминутная эмоциональность тоже борется за место под солнцем и норовит игнорировать опыт, но лишена голоса – кем? Опыту может быть противопоставлено что-то только в трансцендентальной идеальности, которой он сам обоснован. Это могло бы быть схватывание, действующее автоматически. Когда сиюминутная эмоциональность норовит игнорировать опыт, она борется с рациональностью, которая и есть опыт, и одновременно моё внутреннее чувство. Оно – тоже эмоциональность, но не сиюминутная, а отложенная, имеет формулу: эмоциональность + время. Как это время может быть определено – трансцендентальная идеальность или эмпирическая реальность? В нашей фантазии, как заблагорассудится, так время и течёт. И получается, что опыт обусловлен фантазией, которая произвольно делит время, – и вместе с ним эмоциональность на сиюминутную и отложенную. Наша фантазия импровизирует, выбирая из двух активностей, которые возможны у эмоций, разделённых в себе. Активность – это гласный, если прибегать к терминам единого Голоса Бытия, акцент на событии. Моим акцентом стала рациональность, а быть согласной остаётся эмоциональности. Как хорошо подбираются слова – согласной. Мы – на верном пути.
Гадкий Утёнок – тоже событие, воспринимаемое моим опытом. Это – «внутреннее» событие. Я сосредоточен на внутреннем, до внешнего почти нет дела, если приходится выносить внутреннее… Я – интроверт, – но это благоприобретённое, было обусловлено случайностью. Я мог не пойти с мамой в гости… Если Ницше окажется прав, – и нет никакого я?! На стороне нашего желания найти «я» только фантазия.
Собственно, в чём был мой обман мамы? Она хотела, чтобы я шёл в гости, – я шёл: не плачу, это тоже ей на пользу. Я не плачу – не ей на пользу, конечно, а, чтобы не перегреваться. Не плакать – мне самому на пользу. Маме на пользу, мне на пользу, но для совести всё равно обман и ложь. Что за воля к морали?! «Тщитесь стремиться к эмоциональности!», – гласит её мораль. Почему потом «другой» будет предметом её заботы?
Какой-то метафорический перенос смысла, как будто, совесть развивается, как слово в языке, приобретая метафорические значения.
Эмоциональность и рациональность очевидным образом различаются, а совесть по смыслу – неопределённый член их единства. Если она борется и за другого, и за мою эмоциональность, это – пассажир без места. Что можно подразумевать под совестью, как «пустым местом», чтобы парадоксальный элемент из неё получился, строго по Делёзу?
Вообще-то, слово нравственность от «нравиться». Это – эмоционально. Слова разные, смысл – один и тот же: то, что нравится, – эмоционально. Если нравственность совести – эмоциональность, она и подталкивает меня к ней ощущением Гадкого Утёнка. Мне не нравится ощущение Гадкого Утёнка. Совесть становится пустым местом для моей эмоциональности.
Я, разумеется, не думаю о маминой пользе, когда не плачу. Мне еле-еле удаётся думать о собственной пользе – и не плакать. Как тогда мыслит заботу о других моя совесть – это пустое место для моей эмоциональности?
Я опережающе воспринимаю, что произойдёт, если я буду плакать, – в тесной одежде, в колючей шапке мне станет только хуже. Я забочусь, чтобы не возникли эти ощущения. Терпеть их и шагать будет невозможно. Я откладываю выражение сиюминутных эмоций в долгий ящик, избегая ещё больших неприятностей. Это – забота об эмоциях. Мой уже опытный центр регулирует их выражение с помощью трансцендентального времени, и в эмпирической реальности эмоции не выражаются. У эмоций, которые лежат в основе инграмм Хаббарда, тоже какие-то особые отношения со временем, если они не ветшают хоть через год, хоть через девяносто лет, одолевают время, при чём одолевают эмпирическое время. Механизм инграмм – чистое схватывание без внутреннего чувства. Боль удара = воде, текущей из крана, = проезжающей за окном машине, = опрокинутому стулу… Внутреннее чувство ничего не знает об инграммах, ничего не хочет знать о схватывании и в итоге напарывается… Схватывание – это доверие к эмпирической реальности с стороны трансцендентальной идеальности, а внутреннее чувство – слепое недоверие. Трансцендентальная идеальность оказывается расколота сама в себе на доверие и недоверие к эмпирической реальности. Внутреннее чувство пассивно подвергается воздействию со стороны схватывания, но, в моём случае, объединяемое с сиюминутными эмоциями в синонимический ряд схватывание не смогло победить. Сиюминутные эмоции в качестве инграмм, остающихся доступными сознанию, становятся отложенными. Не внутреннее чувство их откладывало, которое пассивно.
Если, я, – награждаемый ощущением Гадкого Утёнка, – не должен врать маме во имя сиюминутных эмоций, то забота о маме проистекает из их откладывания, из рациональной заботы об эмоциях, прибавляющей к ним время. При этом смысл переместился в подавление эмоций. На моих эмоциях резвится «другой». Я шагаю в гости, отложив сиюминутные эмоции, а, чтобы совпасть с совестью, должен плакать и не шагать в гости. Как ни странно, с совестью я совпадаю в обоих случаях, если плачу и если не плачу, и в обоих случаях страдаю. Выбирать можно только между пафосом этого страдания.
Моя совесть не заботится о маме, не заботится и обо мне. Её беспокоит подавление моей сиюминутной эмоциональности, она борется с ним, как с враньём, потом метафорически переносит себя на «другого», у которого всё получилось. Она присоединяется к победителю: лицемерная сиюминутность её природы нашла своё рациональное выражение. Это вполне обосновано: совесть активно преследует цели сиюминутных эмоций и не может быть разумной, только рациональной. Это субстанциональность, а не разум.
Тёмный предшественник в самом слове «совесть» шлёт какой-то знак. Это не только слово-Миф, – как волшебное начало мира, – но и слово-Логос: со-весть. Таким же словом является со-знание.
Мои сиюминутные эмоции были отложены, с их точки зрения, это – бессовестно, но, опережающе отражая действительность, я знаю, что мне станет хуже, если их выражать, и откладывание – разумная забота обо мне самом. Активная определённость сиюминутных эмоций, награждающих меня за это ощущением Гадкого Утёнка, на самом деле, не разумна… разумности не может быть и на стороне их откладывания: – это только преддверие к разуму. И совсем её нет на стороне парадоксального элемента, каким нам представляется совесть.
В этом же начале своей жизни я чувствую стыд перед петухом. Это – очевидная забота о «другом». В случае с мамой, я не забочусь о ней, а о себе забочусь, не плача. Парадоксальный элемент, каким оказалась совесть по отношению к моей эмоциональности и «другому», смещается между ними, как пустое место, или, как пассажир без места, – я уже сам запутался. Это какая-то определённость и смысл одного эмоционального полюса, и какая-то неопределённость одновременно. Моя совесть присоединилась к победителю, проявляет последовательно свою природу и субстанциональность.
Последовательность и определённость одного эмоционального полюса является субстанциональной, а разумной, видимо, будет связка двух полюсов, как в трёхчленном умозаключении связка между двумя посылками.
Если нравственность имеет сиюминутный смысл, то рациональность наполняет её своим содержанием. Эмоции умножаются на имеющийся у меня опыт в итоге, – но то, что мне нравится, стало тем, что «должно» нравиться. Нравственность становится долженствованием. Это – зеркальный переход.
В дальнейшем смысл совести становится каким-то долженствованием. На самом деле, он ещё до своего всеобщего осознания был таким. Когда я не проявлял сиюминутные эмоции, а должен был их проявлять, смысл совести был долженствованием, и остаётся в дальнейшем, переходя на другого. В этом сущность субстанции и её неизменность. Долженствование – какая-то прямая линия смысла совести. В итоге этой «прямолинейности» совесть, являясь «фокусом» рациональности и эмоциональности, становится просто фокусом. Моя мама давила меня тесной, жаркой одеждой, её мозг нуждался в разрядах, чтобы поумнеть, он бы их получал, если бы я плакал. Я, действительно, Гадкий Утёнок. Как хорошо опять слова складываются.
Совесть себя проявляет, как забота о «другом», и в случае выражения эмоций. Я мог преследовать мамины интересы и, если бы плакал. Я вёл бы себя, как «негодный ребёнок», но меня можно было бы определить, как утешение мамы в долгосрочной перспективе. Наше поведение сходилось бы по смыслу с одновременным выражением двух эмоциональных полюсов, как в случае творения. Один из них выражает мама, одев меня тепло и обезопасив себя от моих простуд, а я выражаю другой, плача. Она выражает какой-то рациональный полюс в своих мыслях, но не разумный, а я – эмоциональный. Полюса проявляются, как трансцендентальная идеальность. Мысль, что меня нужно хорошо одевать, присутствует у неё во всякое время. В эмпирическом времени она проявила её раньше, чем я заплакал, но это ровным счётом ничего не меняет: мои эмпирически выражаемые эмоции тоже существуют в трансцендентальной идеальности. В результате мы «сотворили» бы что-то, например, она поумнела, или бы я заболел, но в тот момент я случайно преследовал её сиюминутные интересы…
Могла ли моя совесть проявлять себя в детстве иначе, чем ощущение? Она и в более взрослом возрасте – ощущение. Как смысл, совесть должна заслонять собой ощущение и в эмпирической реальности делает это, но, как эмоция, в трансцендентальной идеальности включает в себя смысл и ощущение одновременно, и поддерживает одно другим. Кажется, что взрослым я бы не испытал стыд перед петухом, но ощущение при игре в карты тоже вполне отчётливо останавливает мышление, как стыд остановил мысли, которые внушала баба Нюра. Стыд – это недоверие, внутреннее чувство, совесть, фантазия… кажется, как ощущение, ушёл из взрослой жизни, как бесполезный тормоз, больше не служащий недоверию к себе в бессовестных занятиях. На самом деле, это ощущение заслонено сознанием, позволяющим себе многое, что не позволяли дети. Они предупреждены об опасности и ещё не имеют взрослых потребностей, потом опасности будут «развенчаны», а потребности возникнут. Ощущение стыда лежит и в основе «тошноты» Сартра, а, что она – конец или начало мышления – уже становится непонятным.
Будучи взрослым, я однажды бескомпромиссно нарушил осторожность, присущую мне с детства, не предложил своим эмоциям «потерпеть». Совесть тогда сидела смирно, мои действия даже сопровождала эйфория, эндорфины. Терпение, от которого я тогда отказался, касалось абстрактных вещей, но они были конкретны для «других». Эти «другие» скрывали свою силу, в итоге я вляпался в полное разорение и нужду. Она затянулась на многие годы, потому что хуже разорения было ментальное на меня нападение… В то время бушевала шоковая терапия, я пересидел её богатым, а когда шок для всех прошёл, он начался для меня. Я умел жить в советское время, но оно кончилось, а в настоящем было трудно найти работу и не платили зарплату. Я оказался нигде, при этом уже привык жить, не нуждаясь ни в чём, и ни от кого не зависеть, бросил специальность и не хотел к ней возвращаться. Я потерял нюх вместе с шагом жизни, но за какой-то год бы выкрутился, если бы не ментальное на меня нападение. Ош (Ошо) пишет, что его почти никто не может совершить сознательно, оно происходит случайно. Очень может быть. Я расскажу, что это такое. Самые любимые и доказанные себе мысли разрушаются вместе с основаниями мышления. В сознании исчезают все иллюзорные опоры, а других никогда не было. Проблема заключается в том, что в таком состоянии нужно прожить десятилетия; кстати, что надо жить, тоже кажется иллюзией. Теоретически есть два пути выхода: создать новую картину мира или восстановить старую, но, строго говоря, восстановить старую – не выход, она уже подвела и аварийная конструкция, ей веры нет, а в магазине новую картину мира не купишь. Сознание возникает, когда ещё не умел толком говорить, просто так его закономерности не меняются. По сути, возникает проблема на всю жизнь, и меня она настигла, благодаря совести…
Мои сиюминутные эмоции пришпилили совесть к рациональности и сотворили из неё «демона» ещё в детстве. Фантазии принадлежит львиная доля внутреннего чувства. Она резвится на его пассивности, но насколько нафантазированы наши терзания, вызванные «демоном»; без сомнения, они – эмпирическая реальность. После того, как я разбогател, сиюминутные эмоции получили подпитку, а вместе с ними и демон; ослабла рациональная осторожность, которая сопровождала меня всю жизнь. Я инстинктивно себя освободил от тошноты, от этих эмпирических терзаний, существующих, как неприятные ощущения, решил дать «чувству» расцвести, откупиться от демона и дать ему насосаться. Моё рациональное поведение получило пробоину.
Я пошёл у демона на поводу. Им было спровоцировано ментальное нападение, но я, конечно, виню в нём и других… Но в итоге я сменил картину мира, достиг в этом деле успеха, как и в детстве, когда подавил эмоции… Я поступил с точностью до наоборот, отнёсся к совести противоположным образом, но ей без разницы. Она меняет пафос и действует в одном направлении.
«Мыслительные способности человека никогда не подводят, даже если человек серьёзно аберрирован», – эти слова Хаббарда свидетельствуют, что совесть не наносит мне вред. После трансового воздействия на мою логику, она возвращается в исходное состояние. Совесть выводит мою логику из строя на время, когда заботиться о «другом», а, может быть, наоборот, возвращает запутавшуюся логику в сознание, когда на полных парах оно мчится к какой-то «ясной» цели… Смысл этой «цели» представляет собой половину смысла, а невыраженная половина делает его ложью.
Моя безмолвная совесть и моя ложь борются за акцент, и в случае с петухом совесть безапелляционно захватила его, стала определённостью… В чём тогда, собственно, было дело? У меня возник настрой на драку с петухом, при бабе-то Нюре, но это рационально только вторым слоем. Первоначальное намерение не учитывало бабу Нюру. Я оставлял бабу Нюру за спиной, даже думал, что она там и постоит, внутреннее чувство не успело перестроиться. Но ложь немедленно уже вплелась в ситуацию, моя эмоциональность стала слишком рациональной… Вдруг совесть перечеркнула всё. Мой расчёт на бабу Нюру, способную оказать мне поддержку, опережающе оказался уже свершившимся без драки. Ложь «вдруг» оказалась стопроцентной, и совесть немедленно выскочила. Совесть даёт право не согласиться с чем угодно, даже с инстинктом самосохранения, подталкивает стать тем, «который не стрелял», иногда действует, как воля к смерти, ибо самого могут снайперу подарить.
Делёз задаётся вопросом: что для нас «другой» по своим действиям и последствиям? «Первое воздействие другого заключается в организации фона. Я гляжу на объект, затем отворачиваюсь, позволяю ему вновь слиться с фоном, в то время как из того появляется новый объект моего внимания. Если этот новый объект меня не ранит, если он не ударяется в меня с неистовством снаряда, то потому, что невидимую мне часть объекта я полагаю, как видимую для другого. Эти объекты у меня за спиной доделывают, формируют мир, именно потому, что видимы для другого. Он препятствует нападениям сзади, населяет мир доброжелательным гулом… Когда жалуются на злобность другого, забывают другую злобность, еще более несомненную, которой обладали бы вещи, если бы другого не было. Что же происходит, когда другой исчезает в структуре мира? Остаётся грубое противостояние солнца и земли, невыносимого света и темноты бездны. Воспринимаемое и невоспринимаемое, знаемое и незнаемое сталкиваются лицом к лицу в битве без оттенков… Мое видение сведено к самому себе… повсюду, где меня сейчас нет, царит бездонная ночь, грубый и чёрный мир вместо относительно гармонических форм, выходящих из фона, чтобы вернуться туда, следуя порядку пространства и времени. Лишь бездна, восставшая и цепляющая, только стихии, бездна и абстрактная линия заменили рельеф и фон. Перестав тянуться и склоняться друг к другу, объекты угрожающе встают на дыбы. Мы обнаруживаем их злобу, как будто каждая вещь, низложив с себя свою ощупь, сведённая к самым своим жёстким линиям, даёт пощечины или наносит нам сзади свои удары.
Что же такое другой? Это прежде всего структура поля восприятия, без которой поле это не функционировало бы так, как оно это делает. Какова эта структура? Это структура возможного: испуганное лицо – это выражение пугающего возможного мира или чего-то пугающего в мире, чего я не вижу. Основное следствие, вытекающее из определения «другой – выражение возможного мира» – это разграничение моего сознания и его объекта. В отсутствие «другого» сознание и его объект составляют одно целое… Сознание перестает быть светом, направленным на объекты, становится чистым свечением вещей в себе. Сознание становится не только внутренним свечением вещей, но и огнем в их головах, светом над каждым из них «летучим я». В этом свете появляется воздушный двойник каждой вещи, – а «другой» заключает стихии в тюремных пределах тел. Именно «другой» фабрикует из стихий тела, из тел объекты, как он фабрикует собственное лицо из миров, которые выражает. Двойник, высвободившийся падением «другого», не является повторением вещей. Двойник – распрямившийся образ, в котором высвобождаются и вновь овладевают собой стихии, при чём все они образуют тысячи изысканных элементарных стихийных ликов. «Кратко: стихии вместо тел».
«Другой» у Делёза – фактура сознания – и совпадает с функцией опережающего отражения действительности, хотя бы частично. Человек ведёт с самим собой внутренний диалог. С самим собой тоже значит, с «другим» самим собой. Это – «диалог» внутри множественной личности, который может быть частью проблемы структуры восприятия мира.
Без кого-то другого рядом с собой в больших пустых помещениях люди начинают видеть призраков (Стенли Кубрик, «Сияние»). Есть проблемы и на полярных станциях, где огромный мир почти не пронизан вниманием других. Иногда людей пугает собственная пустая квартира, в которой они должны жить одни. Мир должен быть отражён не только в одном сознании.
Сознание, как у людей, так и у животных, функционирует в режиме разнообразной настройки на «другого». «Некто, страдающий зубной болью, тоже выражает возможный мир, японец, который говорит на японском, сообщает реальность возможному миру за линией горизонта, как таковому…». (Делёз). Этот настрой на другого становится структурной основой личного опыта, но, например, в отличие от животных, люди критично настроены к душевнобольным. Эта внутренняя настройка может активизироваться при общении даже с нормальными, если те вдруг поведут себя как-то… Одним словом, сознание реагирует на отпечатки в себе многих сознаний. Это олицетворяет некую связь всего со всем. «Другой» есть мир, который мы схватываем. Внутреннее чувство тоже содержит «другого», а если оно содержит ещё и другого, то не может быть нашим «я».
Когда я реагирую на интонацию маминого голоса, принимая решение не плакать, я реагирую в себе на сознание «другого». Трансцендентальная идеальность «другого» становится эмпирической реальностью для меня, но это точно не я. Я сам чувствую колючую шапку, тесное пальто, знаю, сколько идти, чувствую затруднение дышать. Это – я, который находится в сложной личной позиции в эмпирической реальности и делает выбор на основании маминого голоса, выбор – тоже эмпирический. Эмпирическая реальность поддаётся всем расчётам. Кто производит эти расчёты? У меня мало сил на борьбу, но может не хватить сил и дойти. Если посмотреть на эти расчёты только с эмпирической точки зрения, они немедленно рассыпаются. До конца не просчитывается возможность дойти, как и следствия немедленной борьбы, эмпирическая реальность обладает некой неопределённостью. Я ставлю произвольный акцент на ней, моё воображение импровизирует.
В моё внутреннее чувство клином вошёл «другой», но весь мой опыт, в том числе, и опыт «другого», обусловлен и приобретён. Это – не «я», возникший в результате рождения.
«Другим» для меня была и Любка, которой стало вдруг стыдно. Она сообщила мне то, что я сам не видел. Стыдно стало и Сергею Кириенко, уходя с поста премьера, он сказал в интервью: «Объектом реформирования является сознание народа». Он фактически признал: «Экономика – ни при чём, реформируется сознание народа». Это тоже то, что не видят другие. Народ относился к власти, как к погоде, с которой ничего нельзя поделать. Идёт дождик, – что ты с ним поделаешь? А. Чубайс после событий в Белом доме в 93 г. тоже рассказал, как Руслан Хасбулатов попросил у Ельцина разрешения лечиться в кремлёвской больнице. Борис Ельцин написал на просьбе: «Согласен». А. Чубайс по своей воле рассказал, что на самом верху политические противоположности смыкаются. Это – то, что не видят другие. Совесть выманивала у А. Чубайса и выражение лица на фотографиях времён приватизации, как у уголовника.
Примеры проявления совести можно множить. А. Зиновьев: «Я – не диссидент! Мне было хорошо в СССР. Я занимался любимым делом. Правила игры устраивали меня. Всех, прошедших войну, устраивали. Я правила нарушил, написал «Зияющие высоты…». – Зиновьев вообще неустанно всем открывает глаза. То ему стыдно стало, что правила нарушил, то стыдно молчать… Разве не стыдно было жить в системе, которая остановила в себе процессы жизни? Внук сталинского наркома Павел Литвинов принял участие в акции протеста на Красной площади (25 августа 1968 г). По свидетельству Натальи Горбаневской: «Совесть всех нас туда привела». Стыдно было и Виктору Суворову, когда ехал в танке по Праге в 1968 г.: «Уши до сих пор горят».
Советское общество было заточено под этих людей, а они испытывали непреодолимую потребность обнародовать то, что не видят другие… Это был уже современный телемост. Виктор Суворов поставил украинцам вопрос: «Если Украина – независимое государство, почему мне нельзя приехать? Ладно, в Россию – нельзя! Почему нельзя на Украину?». Украинцы, как воды в рот набрали, но лично для меня самостийность Украины рассыпалась, как карточный домик, хоть я никогда и не интересовался, какие они там – самостийные или нет. Виктор Суворов в очередной раз открыл мне глаза, но панацея ли совесть, если она – всего лишь субстанция? Я тоже мог, плача, нести маме «весть», но мой срыв в слёзы, после перегрева в пальто, и болезнь могли и не развить мышление маме. Она могла не заметить связи или себя оправдать, но совесть бы апеллировала к ней. Плач –требование заботы обо мне. Я повёл себя так, что сделал маму со-вестью для себя, установил иную связь. В результате получилось, что у меня есть со-весть, а у мамы её нет. Мой «центр» покрылся тогда ощущением Гадкого Утёнка, но разум обязывал меня не полагаться на маму. Она в тот момент для меня структура восприятия мира. Я воспринял будущее через призму её голоса и сам ищу спасение, но в принципе, я мог и положиться на слёзы, положившись, тем самым, на маму. Другими словами, человек, проявляющий сиюминутные эмоции, полается на окружающих… Для его структуры восприятия мира «другой» выглядит как-то иначе. Скрывая свои эмоции, я становлюсь человеком совести, ведь у мамы всё получилось: она сходила в гости с ребёнком к своей директриссе. Плач в середине пути поставил бы её и меня на грань душевного и физического срыва. Наше взаимодействие развивалось бы в соответствии с взаимным упорством, но какое-то противоречие в связи с определением меня, как человека совести, конечно, возникает.
Мой выбор, установленная мной связь – это моя воля к жизни. Что определением совести может быть, в том числе, и воля смерти, мы замечали, так что противоречие опять налицо, либо воля к жизни и воля к смерти тоже совершают зеркальный, смысловой переход, что напрашивается на мысль само собой. Эмоции бы меня обессилили, но, проявляя их, я живу на полную катушку, а когда зажимаю, это – отложенная жизнь, а не воля к ней.
Всё выраженное тут же становится ложью, в том числе, воля к жизни и воля к смерти. Единый Голос Бытия в маминой интонации даёт мне знать, каким окажется ближайшее будущее, и только один акцент может быть выражен в моём выборе, он окажется ложью. Но, если я живу на полную катушку, в тот же самый момент, это ведёт к какой-то «смерти», а, если я «умер» на время, это возродит. В обоих случаях выражается ложь – половина смысла, – а невыраженная половина оказывается истиной. Это – интересно. Кстати, мама тоже выражает ложь своей непреклонной интонацией. Это – ошибочное представление, что меня нельзя раздеть. Став со-вестью для неё, я мог бы эту ложь разоблачить… с помощью собственной лжи. На самом деле, плакать в тесном пальто не правильно, это –ложь. Я этого не сделал. Я не лгал себе самому, как человек совести. У такого моего выбора есть далеко идущие последствия, но почему мой опыт начинает содержать «другого» именно так, а не иначе? Почему я не учитываю возможность манипулировать мамой? Почему не заметил в детстве, что контролирую её слезами? Кажется, что дело опять во внутреннем чувстве, мешавшем это схватить. Я всё-таки схватываю интонацию «другого». Я не заметил не от тупости. Это – что-то задаёт моему схватыванию направление. Оно никак не попадёт в поле зрения, но похоже на внутреннее чувство, которое именует себя «я», хотя им и не является… Сиюминутная эмоциональность требует, чтобы я плакал, тем самым, говорил правду, требует выражения эмоций, но, в данный момент, отсутствие слёз является условием моего выживания. Я делаю выбор в пользу доступной мне рациональности, за это сиюминутные эмоции ко мне прицепили Гадкого Утёнка. Они – активны, но проигрывают. Внимание привлечено к интонации маминого голоса и одолевает их активность. Это не моя рациональность одолевает эмоции, а внимание, устанавливающее связи. Оно могло бы встать и на сторону сиюминутных эмоций, и также одолеть рациональность. Кажется, вниманием управляет воображение. Сиюминутные эмоции активно привлекают внимание к Гадкому Утёнку, но воображение не подчиняется ощущениям. Оно воздействует на формы созерцания, в том числе, игнорирует эмпирические ощущения и претендует на роль самого активного – на роль «я».
Сиюминутные эмоции навязывают свою волю, но решающий голос принадлежит не им. После некоторых колебаний я склоняюсь к выбору рационального поведения. Неизвестно, куда мы пойдём после того, как я истрачу силы на плач: домой или по-прежнему в гости: три квартала вперёд, а наличные силы – всё, что у меня есть. Если их не будет, мне придётся повалиться на землю и закрыть глаза. Навязать маме требование взять меня на руки – я не рассматриваю. Неприятные ощущения разнообразно терзают меня: пальто стягивает грудь и мешает дышать, колючки шапки впиваются в голову, я всё равно зажимаю в себе желание плакать. Смысл будущего достиг меня вместе с интонацией маминого голоса. Я вполне определён, хотя бы, как воображение всего этого.
Парадоксальным элементом оказывается моя мать, у которой нет места, определённости и самоподобия, по Делёзу; в то же время все эти позиции в данный момент эмпирического времени наделены сверхбытием, опять же по Делёзу. Мать приблизила свою трансцендентальную идеальность к моему внутреннему чувству и наделила его смыслом, лишив меня голоса.
Мы фиксировали некую трещину, бегущую по совести. Тем не менее, совесть сохраняет определённость прямой линии, но и Делёз пишет о трещине: «С тем, что происходит внутри или снаружи, у трещины сложные отношения препятствия и встречи, пульсирующей связки – от одного к другому, – обладающей разным ритмом. Всё происходящее шумно заявляет о себе на кромке трещины, и без этого ничего бы не было. Напротив, трещина безмолвно движется своим путём, меняя его по линиям наименьшего сопротивления, паутинообразно распространяясь под ударами происходящего…». Эмоции борются между собой, как сиюминутность и рациональность, а я выбираю между ними, но моя конкретная совесть более заточена под одну возможность выбора, как некий отголосок в себе прямой линии.
Мы ожидаем от «других» честности, великодушия, самопожертвования, храбрости, открытости, толерантности, нестяжательства… а себе выбираем стандарты выживания. Что это за злонамеренность – признавать только собственные достоинства и чужие недостатки? Если я должен думать о «других», то и «другие» должны думать обо мне. Чем я беспомощней, тем выше шансы получить их поддержку. Все терпят, боятся моей нужды, прощают, испытывают страх перед голосами в голове, перед огромными глазами, устремлёнными им в спину. Этот страх – какое-то «ах»! Совесть –какое-то «ы» … Другим можно намекать, что они должны думать обо мне, они почувствуют страх вызвать у себя совесть из её инобытия и, опережающе отражая действительность, станут действовать в моих интересах. Если я превратил чужую совесть в свой гешефт, кто я такой? Нет, не в моральном смысле: какая сущность это делает? Это же не совесть?!
Очевидно, что на бессовестность у нас тоже только один претендент – врождённые, сиюминутные эмоции. Доведённая до предела, рациональность становится долженствованием, а сиюминутная эмоциональность, доведённая до предела чем становится? Если имеется ввиду прямой смысл слов, то это – нравственность от слова «нравиться». Долженствование – это условная мораль, которую бессовестность использует, потому что сиюминутные эмоции активны. Именно бессовестность – сиюминутные эмоции собственной персоной! Они себя и оставляют без со-вести. Сиюминутные эмоции имеют иную эмпирическую практику и собирают опыт как-то иначе, но их опыт будет тоже обусловлен, как и мой.
Совесть имеет структуру смысла, который приходит первым, но это – не фокус. Всё имеет структуру смысла, который приходит первым, в том числе, и единый Голос Бытия, даже что-то молчаливое и выразительное, как трещина, должно иметь эту структуру, либо носить её, как маску.
Мы также вправе думать, что условную мораль нельзя именовать совестью. Это – маска совести. Проявляя свои сиюминутные эмоции, люди становятся для меня структурой восприятия мира, но заботясь о них, я буду высосан, как через соломинку, однако моя «выгода» в том, что я спасаю свою структуру восприятия мира, спасая их. Конечно, я бы мучил мать слезами вместо того, чтобы «заботиться» о ней и идти в гости, я довёл бы себя до неспособности двигаться, но, возможно, у неё появился бы шанс понять, что она делает что-то неправильно. Мой плач был бы «заботой» о ней, при чём огненной заботой… Если бы ей пришлось меня тащить на руках, тяжелого и тепло одетого, она бы точно поняла. Эмоциональность заботится о «другом» не мытьём, так катаньем. Если мы формируем друг для друга структуру восприятия мира, – это, по большому счёту, всё равно совестливые мы или бессовестные. Мы нравственны по критериям самой совести. Какой режим эмоций более соответствует природе совести –сиюминутный или отложенный – даже сказать трудно. «Маска» тоже может оказаться и не маской вовсе. Вопрос между совестью и её маской может сводиться к активности и пассивности, как между внутренним чувством и схватыванием. Внутреннее чувство останавливает схватывание, а схватывание изменяет внутреннее чувство, прибавляя новый опыт в его распоряжение. Кто из них окажется активней, а кто пассивней?
Это вообще форма речи – говорить, что заботишься о других. Когда я иду в тесном пальто и колючей шапке в точном соответствии с маминым желанием, я не забочусь о ней. Я бы не заботился о ней и, если бы плакал. Возможно, есть смысл говорить о двух пафосах совести.
У одного финского романиста я прочитал, как после короткой отсидки в лагере для военнопленных, он пошёл гулять по Хельсинки; город охраняли усатые советские автоматчики. Солдат встретил на улице двух девушек, рассказал им, как был несчастным в окопах и, вызвав к себе жалость, самую красивую увлёк в кусты, а вторую отправил домой… Девушке понравилось, из кустов они перебрались в товарный вагон, из которого автор бесследно сбежал, наобещав ей чего-то: «Нарцисс – цветок отпетый, отец его магнат, и многих роз до этой вдыхал он аромат».
Сталкиваясь с условной моралью на поле собственного императива, совесть чувствует негодование. Приличные люди, кстати, считают Нарцисса эгоистом, при этом совпадают в мнении с совестью, которая уже треснула и иногда играет пассивную роль. На мой взгляд, глупо гордиться статусом её слепых приверженцев, если какие-то неприличные люди, сами научились совесть «юзить» … Определение эгоист нам не подходит. Оно принадлежит совести, пытающейся быть активной по отношению к собственной маске, и имеет соответствующий оценочный характер. Нарцисс – без ложной скромности. Для себя я не Гадкий Утенок; я – самый, самый – и никто меня не любит так, как я. Это остальные проще устроены. Я легко представляю их себе, а моё представление не может быть сложней меня, значит, и они не могут… Моя сложность делает меня вообще существом исключительным, я бы сказал единственным. Поступки «других» примитивно обоснованы. А мои нет! Я заранее представляю себе основания чужих поступков, а, если вдруг я их себе не представляю, этих примитивных ждёт божья кара. Меня самого, кстати, божья кара никогда не ждёт, Богу было бы удобно согласовывать кару другим со мной. Кто лучше меня раздаст наказания и прочитает окружающим приговор?! Я – и только я! Нарцисс – настоящий претендент на роль «я». Как об этом не додумались раньше? Во истину: – я и только я! По крайней мере, Нарцисс – наиболее выраженное внутреннее чувство, игнорирующее другого, отрицающее его роль. Сейчас разложим всё по полочкам. Подходящие цитаты подберём, как другие были рядом и прошли мимо: «А эта башня наверху – единственная, какую он заметил, башня жилого дома, как теперь оказалось, а быть может, и главная башня Замка – представляла собой однообразное круглое строение, кое-где словно из жалости прикрытое плющом, с маленькими окнами, посверкивающими сейчас на солнце – в этом было что-то безумное – и с выступающим карнизом, чьи зубцы, неустойчивые, неравные и ломкие, словно нарисованные пугливой или небрежной детской рукой, врезались в синее небо. Казалось, как будто, какой-то унылый жилец, которому лучше всего было бы запереться в самом дальнем углу дома, вдруг пробил крышу и высунулся наружу, чтобы показаться всему свету». – Кажется, Кафка додумался до примитивности Нарцисса, которую я, слегка зарвавшись в самолюбовании, не успел толком сформулировать. Ещё, кажется, Ким Ир Сен меня опередил, красуется в докерской каске в иллюстрированном журнале «Корея» и руководит погрузкой контейнера… Такой же иллюстрированный журнал «Англия» поместил большое интервью с Агатой Кристи, которая рассказывает, как пятнадцатилетней девочкой влюбилась в одного местного болвана и могла бы исполнить любую его просьбу, если бы он догадался попросить. Болван не догадался… Примитивное самолюбование, вообще, – вещь грустная, а идиота в себе рано или поздно заметит каждый. Это совершенно неизбежно…
Девушка имела жениха – высокого, влюблённого в неё летчика, – но ей не нравились его покатые ногти. Почему-то, они бросались в глаза. В итоге, она вышла замуж за другого. Когда тот оказался пьяницей, девушка смотрела на мотив своего отказа лётчику с грустным удивлением. Я тоже помню, как шёл по улице и увидел парочку. Мне было тогда лет пятнадцать, они – старше в два раза, но всё равно – молодые люди. Девушка не отрывала глаз от своего спутника, он тоже смотрел на неё, свернув шею. Парочка не заметила моё существование. Некоторым образом, я это осознал и был возмущён: «Как так?». Пуп земли оказался пустым местом. Мысль о себе тогда обострилась. Я пробовал представить себя каким-то неважным, но мне не удалось вывести себя из центра мира.
Нарцисс живёт в башне из слоновой кости и трепещет быть собой. Это звучит на всех языках: «Ich bin Soldat und bin es gern! О, welche Lust Soldat zu sеin!». (непереводимый восторг – быть немецким солдатом). Есть у Нарцисса сила бороться с совестью, правда, оттого, что она у него тоже есть, возникает целый ряд вопросов.
Когда совесть меня заставляла замечать все нюансы в интонации мамы и не замечать, что я контролирую её слезами, она управляла моей логикой, а как Нарциссу без логики? Правда, у меня о себе незаметном информация тоже не прошла «пуп земли – и всё!», – нечего и логику напрягать. Нарцисс достаточно радикально управляется с мыслительным процессом, но так можно довести дело до позитивных и негативных галлюцинаций. Совесть может помочь Нарциссу прозреть, это – нравственная задача. «Да, пусть совесть работает, а я пока покатаюсь на колесе Фортуны!».
Эмоциональный энтузиазм индивида часто выглядит, как воздействие совести: заниматься спортом, хорошо учиться, быть остроумным, играть на гитаре, носить модную причёску – одним словом, не быть прорехой на обществе. Например, моя мать не умела шить, но покупала ткани, садилась за швейную машинку, сокрушалась, как виноватая: «Женщина я или не женщина!». Утомив себя угрызениями совести, она откладывала шитьё в долгий ящик, но, по крайней мере, совесть побуждала её прилагать усилия…
«Это тоже вздор – оставаться мне всю жизнь болваном. Лучше я будет много читать!». – А какие отношения Нарцисс поддерживает с собой, что за башня из слоновой кости, в которой он обитает?.. Ни на чём не основанная надежда на бессмертие была у моей матери. Она однажды сказала об этом. Смертность на земле составляет сто процентов. Эта надежда противоречила здравому смыслу, но, пожалуй, есть предельное выражение самолюбования. И, взирая на Нарцисс с позиций здравого смысла, я смеюсь над его надеждой, но К. Г. Юнг вставляет в мой смех свою реплику: «Бессознательное стариков ничего не знает о смерти», – то есть надежда на бессмертие принадлежит всем людям! Эта башня из слоновой кости – автохтонное представление Нарцисса о себе – и является бессмысленным только на первый взгляд. Для такой ценности, как надежда на бессмертие, у Нарцисса никогда не кончается энергия. Это может быть и причиной представления о бессмертии. Сама совесть подсаживается на этот источник. Нарцисс, ведь, не должен быть болваном, а приемлемым членом общества, и совесть его мучает: «Делай зарядку!». Таким образом, энергия надежды идёт на развитие Нарцисса. Совесть и Нарцисс делают общее дело. Общее дело – это поведение: и нетерпеливая, слепая самая самость становится потрясающе терпеливой и зрячей. Как из этой нетерпимости к иному представлению о себе, кроме бессмертия, возникает такое зоркое терпение?
Я хотел ходить в школу в ботах с молниями вместо шнурков. Они стоили десять рублей, служили год, но мать под предлогом, что денег нет, отказывала мне в ботах и покупала ботинки, которые стоили дороже бот и служили тоже год. Эти ботинки противно лоснились, их носки загибались и быстро облуплялись, но вкус у матери принадлежал прошлому поколению. Она обувала она меня по своему вкусу, как Нарцисс. Я с детства привык к отказам во всех желаниях и не сильно удивлялся, но меня мучила зависть к сверстникам в ботах. Я всякий раз испытывал стыд – стоять рядом с ними в ботинках, сверстники в ботах казались мне небожителями. Кажется, как слепо влюблённый в себя человек, я должен лечь и умереть, но мой Нарцисс мог воспрянуть, обувшись в боты на следующий год, и вместо немедленной смерти я надеялся на будущее. Вроде бы, мать обещала их купить.
На следующий год она заказала зимние ботинки у дяди Вани. Они оказались неимоверно скользкими, я сначала и шагу в них не мог ступить, только по сугробу и шёл в первый день, но мне предлагалось их ценить: «Какие боты? Ботинки купила за сорок рублей!». В итоге я чувствовал себя два года подряд, как корова на льду. Мой Нарцисс пребывал в мрачнейшем настроении. Я не мог восхищаться собой, но надежда на будущее не иссякала, она просто отодвинулась… Жалость к себе – эмоция, которую трудно отложить, только надежда на бессмертие с ней и справляется. Я не стал тогда считать себя каким-то дефективным, выбрал считать свою мать дурой… Это поддерживало моё внутреннее равновесие. Такое мнение о матери, кстати, правильнее было скрывать, тем не менее, она о нём знала. Иногда сиюминутные эмоции побеждали, мнение вырывалось наружу. Я скрытный по воспитанию, но скрытность, в данном случае, не действовала, она была бы долженствующей рациональностью.
Кстати, отказывая мне во всех желаниях, мать тоже была скрытной, и на её скрытность я напарывался пару раз, как на судьбу, но она не была человеком совести. Наша скрытность была какой-то зеркальной.
В настоящее время я выражаю себя более открыто, не вру себе, как раньше, и мне удаётся замечать нелицеприятное отношение. Я не стираю эту информацию в порошок, знаю совершенно определённо, что нравлюсь далеко не всем людям, но надежда до сих пор позволяет поддерживать внутреннее равновесие. Надежда на бессмертие осталась той самой, не смотря на радикальные изменения во мне, не ветшает, как инграмма Хаббарда.
Приобретённый Нарциссом опыт используется совестью.
Если кто-то скрывает свои эмоции, я ощущаю внутренний укол. Мой сын однажды мог бы быть повеселей. Мы шли покупать ему кроссовки, а он, казалось, совсем не рад. Я начал «нюхать воздух», немного подумав, по своей инициативе сказал, что мы купим те, какие он выберет. Раньше ребёнок жил со своей матерью: там могло быть всё по-другому. Он несколько раз переспрашивал без интонаций. Я понял, что попал в точку, и поклялся…
Когда он выбрал, я чуть себе язык не откусил. Мне потребовалось самому утешение. Я несколько раз повторял: «Это носить не мне, не мне». Позже выяснилось, что вкус у меня устарел. Кроссовки со звёздами вместо полосок подходили и к джинсам, и к ребёнку. Потом это стало традицией: все решения, что ему носить, ребёнок принимал сам. Только однажды я купил ему джинсы Levis, узнав фактуру у ткани, когда мы были в магазине… Когда он вырос, то поставил меня в известность, где хочет учиться. Я смирился, и теперь не приходится тратить силы на выполнение тех решений, которые бы я навязал. Такие примеры встречаются на каждом шагу. Родители воплощают цели, навязанные детям, и всё равно те бросают эти цели на дорогу. При этом они остаются детьми своих родителей и сильно отстают в плане социальной самостоятельности. Так что ребёнок с реализованным самолюбованием демонстрирует наилучшие результаты.
Свой идиотизм Нарциссом осознаётся через ошибки. Когда мне было лет девятнадцать, у меня, видимо, отчётливо текли слюни на одну девушку, а ей было лет двадцать восемь. Она заходила к нам вместе с сестрой на работу, а приводил их друг и сразу представил их, как своих баб, это тормозило мне мышление… Сестра была тоже красивая, но рядом с девушкой, почему-то, не производила на меня впечатление, а девушка проявляла инициативу в распущенных шутках, из-за этого у меня закипало к ней горячее половое чувство. Однажды, без друга и без сестры, она пальчиками в колечках извлекла из сумочки листочек со стишком и дала мне прочитать, в стишке фигурировал «фачно-минетный станок». Я понял все слова, кроме «станка». Мне померещилось что-то вроде бабкиной самопряхи. после того, как я прочитал, девушка спросила: «Тебе нужен фачно-минетный станок в хорошем состоянии?». Чтобы не попасть впросак, я, на всякий случай, сказал: «Нет».
Через день меня осенило, что «фачно-минетный станок» – это просто женщина. Она имела в виду себя. Но так и не появился шанс исправить ошибку. Девушки больше не заходили.
Я отчаянно нападал на свою глупость, но нужна была какая-то базовая истина, от которой, как от основы, можно было довести дело до частностей в переделке себя. Нужна была всеобщая категория, покрывающая собой всю землю. Найти её было не так просто. Честность, например, не подходила. Люди вели себя корыстно: вся земля была испещрена прорехами эгоизма. Я был в отчаянии от своей тупости и неспособности понять мир: на земле буквально не было живого места от всяческой жадности, а жизнь, тем не менее, продолжалась, как ни в чём не бывало. Никакой стройности не было: дырки, дырки, дырки… Боже мой, я – шизофреник!
Правда, где эти киты или слоны, на которых всё покоится? Нарцисс может солгать: «Займи денег, завтра дадут зарплату, и я отдам». Хитрец уже осведомлён, что завтра зарплату не дадут. Он бессовестно вставляет в своё «умозаключение» ложную посылку, – приёмчик известен давно, со времён древнегреческих софистов. Слова лжеца деформируют мою логику извне. Как мы помним, логике доставалось и изнутри: совесть заставляла меня не додумывать мысли до конца при игре в карты, Нарцисс вычёркивал информацию. Логика, как будто, – объект для манипуляций совести и Нарцисса. И всех, кому не лень…
Нарцисс действует на логику другого Нарцисса. Моя совесть – на мою логику; для неё это тоже логика Нарцисса. Смысл кажется каким-то простым, но форма созерцания «мой – не мой», путает его. Моя совесть изнутри противопоставлена моему Нарциссу, который снаружи, но другие Нарциссы противопоставлены мне тоже снаружи. Положение моего Нарцисса ничем не отличается от их положения для моей совести… Если извне и изнутри запутывают логику, где она сама пребывает? Мы себя сейчас сами запутаем без разделения трансцендентального и эмпирического пространства и времени. Логика – это их граница. Так что путает её то и другое. У неё очень уязвимая позиция, но, если трансцендентальная идеальность и эмпирическая реальность совпадают, то только в логике. У неё должны быть и самые сильные позиции: для смысла, который приходит первым, по-другому не бывает. Логика – связка или средний термин умозаключения, включающего трансцендентальную идеальность и эмпирическую реальность, как свои посылки. Интересно, какую из этих посылок следует считать большей, а какую – меньшей? От ответа на этот вопрос зависит идеалистическим или материалистическим окажется мировоззрение.
Каким бы мировоззрение и мышление не оказалось, для нас в принципе не важно, ибо связка, в данном случае, логика составляет для нас главную интригу.
В поисках себя, я должен разделиться со своей совестью или свою совесть, как заботу о другом, объединить с другим Нарциссом, чтобы этот смысл понимать, как простой, и на основании того, что я чувствую себя, как нечто простое и неделимое, считать, что это и есть «я», но это ведь не так! Я – не «другой» даже наполовину, и без совести – не я, а, как множественная личность, которая в себя включает «другого», я – не простой. Отношения с другими есть в наличии. Это простой «я» никак не отыщется.
Моя совесть и мой Нарцисс борются друг с другом во мне самом, как разные оценки. Мой Нарцисс и другой Нарцисс борются тоже друг с другом, но, не смотря на всю путаницу, можно констатировать, что ни моя совесть, ни мой Нарцисс не заботятся о моей логике. Вернее, они имеют в виду разную логику и по-разному организуют внимание… Когда на мою логику нападает другой Нарцисс, я должен её защищать. Кто такой «я», сказать трудно, но можно сказать, что это единственный случай, когда она получает мою поддержку. Когда на неё нападает моя совесть или мой Нарцисс, стирающий в порошок любую неудобную информацию, кто её защищает? Совесть и Нарцисс каждый на свой лад норовят манипулировать моим вниманием. Они борются между собой за право выразить в нём свою оценку. Моё внимание – место логики, – в то же время, место созерцания реальности: внутренней и внешней. Акт внимания – акт логики, при этом логика оказывается какой-то кривой из-за совести и Нарцисса, ещё надо учесть «других», норовящих на неё воздействовать. Самые изощрённые из них воздействуют на мою совесть, чтобы она корёжила логику, ещё они воздействуют на самолюбование моего Нарцисса с той же целью. Эти «другие» ещё делают для меня доброе дело. Я бдительней к ним, чем к себе.
Если отвлечься от личной истории и темперамента, сформировавших меня, в голове непрерывно крутится внутренний диалог, воспроизводящий дискурс коллектива. Дискурсивный – значит логический. В данном случае логика определяется, как преданность каким-то оценкам, а не объективность.
По причине борьбы совести и Нарцисса единственный смысл не может быть установлен и в моей голове, но, кажется, что мир беспристрастно нас объемлет. В нём действует объективная логика, как эта логика совпадает с нашей – дискурсивной? Они совпадают, как-то уживаются, иначе никакие умозаключения о мироздании невозможны, но логическая связка между посылками трансцендентальной идеальности и эмпирической реальности оказывается какой-то кривой или дискурсивной.
Совесть и Нарцисс тоже прекрасно уживаются. Виктор Пелевин делает замечание по поводу дискурса: «Дискурс и гламур одно и то же».
Сознание начинается с уступок. Мы не говорим «тыблако», не едим снег, не уросим. Уступки накапливаются и приводят к «жертве», как своему общему знаменателю. Пожертвовать можно чем угодно: деньгами, жизнью или символическим вниманием. Также не важно: ты жертвуешь или тебе жертвуют. В результате взаимных жертв и уступок друг другу совести и Нарцисса, дискурс любуется собой, а гламур оказывается правильным…
По улице идёт девушка с ярко накрашенными губами. Это правильно и красиво. Это – гламур. Теперь представьте себе мужчину, который идёт по улице с накрашенными губами… То, что красиво для женщины, безобразие для мужчины. Это не правильно и не красиво… В дискурсе присутствуют оценки, есть преданность им, но почему поп в рясе (женском платье) не выглядит безобразием? Поп, ведущий службу в костюмчике, был бы точно безобразием. Эти оценки дискурса обладают какой-то произвольной логикой, дискурс, как минимум, не последователен, и эта непоследовательность выглядит произвольно, и со временем «вдруг» меняется.
Когда Л. И. Брежнев, награждая государственных деятелей, целовал их крепко, это выглядело немного странно, но вполне прилично. Тем не менее, советский дискурс настаивал на сдержанности чувств. Почему Леонид Ильич ведёт себя с точностью до наоборот, и это тоже – великолепный советский дискурс?! Кажется, эмоции игнорируют все правила, объявляют приличиями себя, играют без правил. Сами эмоции и есть правила! Леонид Ильич проявляет фронтовые эмоции или симулирует их, ведёт себя, как политрук на фронте. При этом гламур оказывается правильным, а дискурс – красивым. Дискурсивная логика преследует равновесие совести и Нарцисса, как свою цель.
Мы держимся за ниточку своих представлений. Когда на ёлке дед Мороз грозил отморозить нам вытянутые руки, мы всегда успевали их отдёрнуть. Не смотря на азарт, в деда Мороза всё равно не верилось до конца, мне всегда казалось, что это директриса школы, закутанная в красную шубу и в белую бороду. Я узнавал её изменённый голос… В хоровые песни верилось больше: «Как прекрасна наша жизнь!». Совесть принимает произнесённые вслух слова за правду. Позже убеждённость в красоте и правильности нашей жизни смыл гламур зарубежных фильмов. Так что ниточка дискурса задаёт сознанию, вниманию и логике вполне проницаемые границы. Жизнь за рамками дискурса существует. Формула женщин всех времён и народов: «Ты об этом не говори!». Всё будет в порядке.
Если ты – моряк – и возбуждён этим фактом, ты ходишь и по суше, как моряк, качаясь. Это умозаключение от частного к общему, – как правило, от себя любимого к моряку или кому-то ещё – рефлексия. Дискурсивные представления о «правильно и красиво» – какая-то дедукция. Мы стали для себя внешним миром, заключили с собой договор о собственном образе: моряк, священник, мать семейства, – но приняли на себя этот образ уже как общий и дискурсивный… Рефлексия движется от своих личных проблем к представлению о смысле жизни, соприкасается с представлением о личном бессмертии; в тоже время в её основании находится нечто «другое», а не мы сами, – некая «важность», которая становится «важностью самого себя». Совесть и Нарцисс развиваются в результате воздействия других. Как структура восприятия мира, «другой» лежит в их основе, а с точки зрения содержания: кем себя окружишь, особенно на долговременной основе, так и будешь воспринимать мир. Буквально следом, как оценка другого, возникает разделённый в себе эмоциональный смысл: жалость к себе и беспощадность к другому или жалость к другому и беспощадность к себе. Если смотреть с точки зрения эмоциональной структуры: жалость и беспощадность – один и тот же смысл, и, если жалость – половина этого смысла, то второй половиной является беспощадность. Их смесь – жуткий лабиринт и прямая линия, по словам Делёза, – ибо только здравый смысл разделяет жалость к себе и беспощадность к другому. Смысл, который приходит первым, этого не делает.
Гегель обращается к рефлексии, как к началу всех своих дефиниций в «Науке логики», но логическое начало определяет, как пустое Бытие и пустое Ничто. В результате взаимного перехода они образуют наличное Бытие. Если логическое начало является безусловным и не подлежит рефлексии, то истина и наличное Бытие рефлексии уже подлежат… Логическое начало позволяет мыслить с любого места путём индуктивного умозаключения. Дискурс же представляет собой какую-то дедукцию: в этом между ними разница. Логика дискурса определяет логику поступков, обязательную и общепринятую для всех.
Быть правильным, значит, привлекать к себе внимание. Быть гламуром очень приятно; в то же время быть слишком уж «правильным», значит, от себя отталкивать. Дискурс оказывает и такую услугу; углубляя анализ, наталкиваешься на противоположное следствие, и, очевидно, что гламур работает, как щит, устанавливает дистанцию, опережающе прерывает отношения с кем-то, требует очень выверенного поведения. Дискурс содержит в себе «суд», иногда и уголовный, в то же время позволяет индивиду, получившему какое-то преимущество в обществе, вести себя «подбоченившись». Эта капризность гламура – зеркальное отражение «правильно», некая свобода от правильно, его подмена «собой любимым». Ты теперь – правильно! Но капризность, как свобода для себя лично, всё равно дискурсивна, она – до определённого предела, это представление о свободе почерпнуто из прошлого подавления. «Другие» члены общества терпеливо следуют этой дискурсивной логике, чтобы в свою очередь тоже стать её «гламуром» на время. Дискурс может и навсегда даровать иллюзию свободы, на которую человек отважится, при этом сохранить над человеком контроль. Его железная логика по-прежнему отражает самое существенное в объективной реальности – её неотвратимость.
Дискурс представляет собой устойчивое существование, действуя то как правильно, то как красиво, но не вечное, какое имеет логика.
Важность самого себя – основа всякой рефлексии и зеркальное отражение жалости к себе. Дворовые крестьяне в России (не путать с пахотными) хвастались друг другу своими господами. Это была не рабская психология, а их гламур. Рефлексия не равна дискурсу, как и «гламур» не равен «правильно», но это личный момент, в котором явлен общественный момент. Рефлексия, как и логика, вечна, но не вечны господа и дворовые крестьяне. Дискурс, разумеется, различался в зависимости от эпох и культур. Мы сами могли наблюдать его смену после распада СССР. Представление о времени Брежнева – вовсе не застой. Мы смотрели «Белое солнце пустыни», «Ну, погоди», Олимпийский Мишка улетал в небо. Мы были защищены от оскала капитализма, пребывающего где-то за границей.. Всякое настоящее всегда позитивно, во времена Сталина тоже не было никакого культа личности, были самолёты, «Марш энтузиастов», а до Ленина были «конфетки, бараночки, словно лебеди саночки», – а вовсе не кровавое самодержавие. Но прогресс всегда побеждает: татаро-монгольское иго свергнуто, культ личности разоблачён, застой преодолён… Настоящее победило. Оно – легитимно! Весело, наверное, жилось в гитлеровской Германии: «Deutschland uber alles! Heil!», – но дискурс слишком условен, чтобы быть навсегда. Правильно и красиво начинают расходиться. Правильно становится некрасиво, а красиво – не правильно. Что-то требуется принести в жертву.
Мир – не только моё представление. Это и представления «других». Они отличаются от моих, тем не менее, наполняют мир «доброжелательным гулом». Дискурс организует наше внимание, деформирует его, притупляет или обостряет… Но только в некоторых случаях он бросается в глаза, а обычно существует, как фон, как сама неизменность жизни.
«Оба события произошли, как наваждение. Дядя Гоша подарил мне воздушку и огромную горсть пулек с обещанием принести ещё, если понадобится. Я подержал винтовку в руках, нашёл тяжёлой и решил забыть о ней. Но через пару дней прибежал толстый Сашка с выпученными глазами и стал рассказывать про каких-то соседей, которые возвращаются с охоты, по этому поводу существовала целая интрига и переросла уже в ажиотаж. Я один ничего не знал. Все этих охотников, ждали… Как-то так получилось, что общее ожидание проникло и в меня. Чтобы что-то не пропустить, я побежал с Сашкой на Пятый… Машина охотников уже стояла. Дети, жившие там, толпились вокруг неё, а мужики таскали из машины какие-то пустые вёдра. Ожидание нами чудес вызвало у одного из них озабоченность. Он открыл багажник, достал окровавленную птицу и бросил на траву. Наше внимание было поглощено… Перья птицы отливали коричневой сочностью, на груди был белый пух, тоже сочный и чистый. Перед нами была явно не курица. На белой груди я всё-таки заметил грязное, полустёртое пятнышко овальной формы, потом заметил второе, такое же, нашлось рядом и третье. Они оказались друг от друга на одинаковом расстоянии и были одинаковой формы. Я заметил уже их целый ряд, а потом и вообще ряды… Это была расцветка… Неподвижные глаза птицы сохраняли блеск, а хищно загнутый клюв вдруг сам собой угрожающе раскрылся. Мы, наконец, поняли, что она живая! Мужик объяснил, что это раненный птенец, и предложил вдруг тому, кто захочет, взять его домой. Я первым справился с немотой, мой хриплый голос выразил такое желание. Никто из детей не перебил, никто больше не претендовал.
Я нёс птицу в руках, ещё не понимая, что произошло. На плечи мне сваливалась забота. Птенца надо было где-то держать и кормить мясом. По дороге домой я решил, что спрячу его под сенями у бабы Нюры. Там лежали короткие доски, щепки и прочий деревянный мусор. Я решил пока не привлекать к нему внимание. У хищной птицы мог оказаться плохой имидж в глазах родственников, а мне нужно было сначала освоиться с проблемой, которая уже есть… Освободив себе руки и спрятав птенца под сени, я сразу оказался лицом к лицу с более фундаментальной проблемой: как его кормить? Накрошить коршунёнку хлеба, как курице, было нельзя. Он бы не стал его клевать, а просить мясо у родственников было бесполезно… Мясо ценилось бабкой, и о коршунёнке надо было объявить. Любые трения с его пропиской, сразу ставили меня в безвыходное положение. Кроме того, если мяса дома нет, бабка не пойдёт покупать его в магазин ради коршунёнка. Сотрудничество с матерью я вообще не рассматривал. Надо было доставать мясо самому… Я эпизодически видел его сырым, но самостоятельных выходов не имел, никогда не интересовался сырым мясом, и сам бы вызвал интерес таким интересом… Тут меня осенило: «Его можно кормить воробьями!». Они были бесхозные. За них бы никто не заступился. Кормление птенца под сенями даже не привлекло бы внимания… Коршунёнок был на нелегальном положении – это я пока решил твёрдо.
Сначала я, почему-то, уклонился от мысли о ружье. Из какого-то ящика придумывал ловушку, но это было деятельностью, бросающейся в глаза. Ящик бы торчал в огороде и вызывал вопросы. В ящик надо было накрошить пшена и опять обращаться к бабке. Наконец, я вспомнил о ружье. Воображение быстро нарисовало мне охоту с ним. В огороде бабы Нюры рос клён, воробьи там всегда сидели, мне не нужно было даже выходить на улицу и привлекать внимание к ружью, а, лёжа на обширной крыше, я мог удобно стрелять. Можно было и крошек накрошить, воробьи бы сами слетелись на открытое место. Я мог стрелять и с крыши бабы Марфиного сарая, если накрошить хлеба на бабы Нюрин… В итоге я не стал ничего крошить, такая охота превращалась в холодное убийство. Я решил стрелять воробьёв в ветках и подбирать с земли. Для начала мне нужен был только один, а потом посмотрим…
В результате моих усилий, коршунёнок остался целый день не кормлен. От выстрелов воробьи то ли улетали, то ли просто так улетали, а к вечеру их совсем не стало. Я уже испытывал озабоченность и во время передышки в стрельбе из-за пропажи воробьёв вышел поискать их на улицу без ружья… Там бегал Валерка Семёнов. Он был сильный и ловкий. Кажется, не было ничего такого, что Валерка бы не умел: набивать мяч двумя ногами, высоко подбрасывать дорогую шоколадную конфетку и ловить ртом. Когда я раздумывал, кто победит, если будет драться, например, наш город и Москва, то сильно рассчитывал на него. Мать считала, что такой драки не может быть, она не имеет смысла, но смысл имеет даже квадратный круг, не смотря на неисполнимость денотации. В общем, я поделился с Валеркой проблемой, нарушил «режим тишины» вокруг коршунёнка. Сначала он не понял меня: пришлось повторить про ружьё. Наконец, глаза у него загорелись: «Тащи ружьё! Воробьев мы настреляем».
Валерка вызвал у меня облегчение. Завладев воздушкой, он побежал искать в палисадниках исчезнувших воробьёв, но убитых немедленно не появилось. Скоро я понял, что он просто играет, перебегает с места на место от палисадника к палисаднику, симулирует активность и целится в пустые кусты. Вежливо потерпев какое-то время, я стал просить винтовку назад. Валерка тоже вежливо отвечал: «Щас, щас», – от него винтовка перешла к его младшему брату Сашке. Тот не отдавал винтовку уже нагло, вообще целился в пустые провода. Я немного стал закипать…
В это время Сашка опустил винтовку горизонтально, нажал на спусковой крючок и немедленно, передал винтовку мне, завладевая ею, я не обратил внимания, что соседка – тётя Маруся, только что прошедшая мимо нас, вежливо поздоровавшись, схватилась рукой за шею. Тётя Маруся повела себя странно: повернулась к нам и стала ругаться, выражая серьёзную досаду. На шее у неё расплывалось красное пятно… Сразу выяснилось, что никто не понимает, что стрелял не я, казалось, никто и не хочет понимать…. Сашка – как воды в рот набрал. Баба Нюра немедленно отлучили меня от винтовки, появившись на улице. Меня удивил Валерка, всегда называвший младшего брата самураем и ненавидевший за подлость, который не поддержал мою апелляцию. Вместе с Сашкой он тихо смылся домой…
Винтовку баба Нюра мне так никогда и не отдала. Через день из-под сенок пропал и раненый птенец.
Бессмыслица взрослых доминирует над бессмыслицей детей. Тётя Эля всю жизнь считала, что я «выстрелил Маруське в шею», гордилась, что замяла этот скандал своими уговорами, тётя Маруся хотела идти в милицию. Мне, возможно, повезло: той же ночью она прибежала к бабе Нюре ночевать. Её муж – всегда приличный дядя Витя – вдруг напился, вернулся домой и стал буянить. Это был какой-то не её день…
Всё, что мы говорим, – ложь. Это не зависит от желания сказать правду: сказали, что сделаем, даже верили, что сделаем, но делать не стали или не получилось. Значит, – ложь; оправдания – тоже ложь. Правда – то, что мы делаем, а истина – правда и ложь вместе, пропорция между сказанным и сделанным. Она конкретна. Смысл – это тоже конкретно. Истина и смысл в этом отношении совпадают. И, когда «правильно и красиво» разошлись, как в случае с выстрелом, смысл дискурса, нелогичного и лживого, становится истиной в последней инстанции. То есть истиной может оказаться, что угодно, в том числе, и ложь.
Правильно и красиво – это этическое и эстетическое в привычных терминах. Этика, вообще, – ложь о внутреннем, эстетика – ложь о внешнем. Наша речевая деятельность проясняет смыслы, ценности и мечты, не отражает пассивно объективную реальность, а преобразует активным представлением. Дискурс подразумевается в происходящем. Когда две лжи – этическое и эстетическое – работают совместно, по идее, это дискурс и есть. Но, если «правильно» становится некрасиво, а «красиво» – неправильно, если они расходятся, то, по идее, уже и не работают? На самом деле, дискурс в этот момент обретает голос, – и он «заголосил», когда тётя Маруся получила пулю в шею, выразил себя, как чистый смысл.
Этике, как смыслу, не важно, о ком заботиться, о новорожденных детях или умирающих родителях, но усилия, вложенные в новорожденных детей даром не пропадают. Малыши начинают ходить, говорить и заставляют собой любоваться, этические усилия, вложенные в них, приносят эстетические плоды. А усилия, вложенные в умирающих родителей, рассыпаются вместе с родителями… Эстетического чувства умирающие люди тоже не вызывают, и чувство выполненного долга, как чаша с трещиной, остаётся пустым, но дискурс выглядит только голосистей, когда этическое и эстетическое разошлись, его чистый смысл обретает акцент.
Там, где дело идет о смерти, царит только комплиментарность: «О мёртвых либо хорошо, либо ничего». Это выглядит, как «жертва». Правильно и красиво начинают править миром, когда расходятся. Такое расхождение является нонсенсом, который «производит смысл в избытке». Там, где дело идёт о королях, тоже царит комплиментарность. Верховной власти только восхищение без всяких противоречий. Это даже – источник культуры. В её основе опять лежит «жертва».
В «Золотой ветви» Фрезер даже пишет о королях, как о тех людях, что предназначены в жертву. Подозрительный какой-то исток у культуры, – но если нужно было задобрить богов, казнили короля, только он имел право поведать богам о нуждах народа и попросить, например, о дожде. Другие свидетельства не принимались. А до своего жертвоприношения король правил. Кажется, король потом мог принести в жертву и своего сына. Самого лучшего, а не какого-нибудь паршивого «агнца» в жертву богам! «Казнимый-казнящий» король создал обычай и культуру, как основу цивилизации. А. Дж. Тойнби в «Исследовании истории» пишет: «В верхнем течении Нила и сейчас живут племена, близкие по типу лица, физическому сложению, черепным пропорциям, языку и одежде древним египтянам. Во главе этих племён стоят чародеи – повелители дождей или божественные цари, которые ещё до недавнего времени подвергались ритуальной казни». Сейчас дискурсивное сознание исключает представление о короле, как лице, предназначенном в жертву, но мистика первоначального смысла приводит нам исторические примеры: Мария Стюарт, Карл Первый, Людовик Шестнадцатый, Мария Антуанетта, Николай Второй с семьёй… Что за передаточный механизм заставил доисторический ритуал через древнеегипетскую цивилизацию, которая не имела аффилированных с собой цивилизаций, согласно Тойнби, дойти до наших дней? «Жертва», как явления социальной жизни, тянется из доцивилизационной эпохи, и известный мир остаётся неизменным в своей основе. Государственные устройства разнообразны и исключает «образец», но «жертва» сохраняется во всех устройствах, как идея Платона, меняет маски, но остаётся: «Целая серия не имеющих значения убеждений, но в реальности мы сталкиваемся с тиранией благих намерений, с обязанностью думать «заодно» с другими, с господством педагогической модели». (М. Фуко). Жертва вызывает страх, и мы не можем отличить себя от своего страха. Он подчиняет наши представления о правильно и красиво, они расплывчаты без страха, существуют «в душе», как сингулярность, бесформенно, а страх стать «жертвой» – это акцент на сингулярности.
Если всё подчиняется смыслу, который приходит первым, тогда вместе с дискурсом что-то работает, как его противоположный момент. Тёмный предшественник оставил нам слово «менталитет», которое прижилось, никуда уходить из языка не собирается, хотя в профессиональном сообществе «инженеров человеческих душ» сложился консенсус, что никакого такого «менталитета» не существует, который бы отличал одни народы от других. Может быть, они не там ищут? Установки сознания, ограничивающие восприятие дискурса, никак не отличают одни народы от других, наоборот, структурно объединяют. Если дискурс – выражение рациональных установок в сознании, то менталитет – выражение сиюминутных установок. Выстрел тёте Марусе Сашкой в шею можно рассматривать, как менталитет подростка, выражение сиюминутных эмоций из-за пропажи мишеней в виде воробьёв. Языческий менталитет, представленный в «Бежин луге», тоже выглядит, как противоречие «здравому смыслу» христианского дискурса, но, как верование, от него по форме ничем не отличается, отличаясь по содержанию. Языческие представления пугают и заставляют «жаться» к христианскому Богу.
И дискурс, и менталитет – не всё, что говорится. Это – вкрапления и вставки: «Был бы ты лучше слесарь или какой-нибудь сварщик, в крайнем случае милиционер, только не барабанщик». – В данном случае А. Северный выражает менталитет двумя словами: «какой-нибудь» и «в крайнем случае». Все прочие слова выражают какую-то действительность. Дискурс – это целования Леонида Ильича. Он выражается официально и кодифицирован. Менталитет, вроде бы, не кодифицирован: какой-нибудь и в крайнем случае не архив менталитета, хотя «Бежин луг» пронизан номинальностями язычества. Какой-то неписанный архив менталитета тоже должен существовать.
Дискурс завоёвывает для себя эмпирическую реальность, а менталитет, вроде бы, нет, но тоже не рефлексия, а какая-то дедукция. Ранние христиане отказались приносить жертвы римским богам, за это их самих приносили в жертву. Завоевание эмпирической реальности требует более изощрённой лексики, и в архиве христиан были не только слова вроде какой-нибудь. Впоследствии христианство стало официальным дискурсом, но что-то происходит с дискурсом. Православный дискурс и советский дискурс проиграли менталитету. Собственное соотношение менталитета и дискурса – кто из них «резвится», а кто играет пассивную роль – можно описать, как моменты силы, один из которых всегда развёрнут, как среда, а второй находится в нём, – но это описание с точки зрения неизменной формы взаимного перехода. Содержательно то, что изменяется, а потом на новом витке возвращается, – характеристика уровня общественного развития. Не смотря на существование табу, в обществах, не достигших цивилизации, ведущую роль играет менталитет… вождь ничего не может поделать с племенем, если то не хочет воевать. Дискурс играет активную роль только в цивилизованных обществах: http://doxajournal.ru/texts/clastres.
В то же время после столетней войны в Европе возникла свобода совести, вера стала личным выбором человека. Дискурсы отступили. Как было сказано, у нас это произошло в форме отступления православия и коммунизма. И, видимо, в свободном обществе менталитет будет важнее дискурса; снова настанут такие времена, но формы Бытия не позволяют фантазировать безусловную победу чего-то одного. Менталитет имеет отношение к субстанции, дискурс навязывает ей какую-то внешнюю цель, обеспечивая самодвижение…
Кроме расхождения между менталитетом и дискурсом, между ними существует момент единства. Они могут быть вместе определены, как мировоззрение. Если за рамками дискурса жизнь существует, то за рамками мировоззрения уже нет. Мировоззрение – это направленность сознания, некая прямая линия. Например, историческое мировоззрение позволяет себе представлять роль белых мужчин, но роль жёлтых мужчин не акцентирована, по крайней мере, в нашей части света. Историческое мировоззрение не акцентирует и роль женщин. Все знают, кто такой Цезарь. Каково влияние его жены на историю? Мировоззрение вообще воспринимает историческую роль женщин как-то специфично. Было немало королев, гетер, жён, наложниц, сыгравших свою роль в истории, – всё равно эта информация не наводит фокус на женщин. Они воспринимаются, как случайность истории, как прекрасная Елена, из-за которой вспыхнула Троянская война. Историческая субъектность признаётся только за мужчинами. Это заслуга мировоззрения – дискурса и менталитета одновременно.
Совесть и Нарцисс увеличивают свой масштаб с индивидуального до социального. Они вместе являются причиной и дискурса, и менталитета, но в настоящий момент самое-самое начало мышления для нас в Нарциссе. Он обладает силой Надежды на бессмертие. Ещё правильнее будет сказать, что начало мышления скрывается в сиюминутной эмоциональности. Эмоции никогда не равны себе, но неизменной является связь их полюсов. Она – форма эмоций, а полюса – содержание этой связи, которое может быть индивидуальным, социальным, совершать диалектический переход и развиваться по спирали, являясь общезначимым смыслом.
Связь полюсов, как формальный момент, можно было бы наречь здравым смыслом, и разум – самое подходящее определение этой связи, но нужно рассмотреть неоднозначность разума.
Дискурс хоть и устойчив во времени, но не вечен и мог бы являться «содержанием», связываемым неизменной логикой, если бы не нарушал её: «Я не ношу часы, я – еврей!». Это заявление, на самом деле, не логично, только носит маску какого-то логичного высказывания. Будь ты хоть негром преклонных годов, – понятия часы и еврей никак друг друга не загораживают, не накладываются, между ними не связки. Но нет связки, не значит, что нет смысла, присущего разуму. Логика «обличает» дискурс, который пытается «резвиться» на ней, но кто – дискурс или логика – будет играть активную роль в мышлении, в каждый конкретный момент времени зависит от интуиции, которая посещает нас случайно в моменты какого-нибудь эмоционального напряжения. Инграммы, запутывающие мышление, тоже активизируются в моменты эмоционального напряжения, но, как понятие, смысл объединяет в своём определении полюса и установленную между ними связь. Он – сразу форма и содержание. Так что дискурс, как смысл, имеет формальный момент связи, которая может быть не логичной и не вечной, но занимать место логики. Этот момент лучше именовать логосом, чтобы отличать от логики.
Дискурс – это вообще логика ценностей, которую мы определяли, как функцию внимания. Можно только уточнить, что внимание – это не логика, а связь: врождённая логика и логос, который внимание приобретает в процессе развития индивида. Устойчивый структурный момент в развитии логоса, тем не менее, может быть выделен.
Самолюбование Нарцисса желает себя выразить. Это надо понимать, как внутреннее желание, сам Нарцисс по отношению к нему что-то внешнее. Гегель бы сказал, что он представляет с самим собой простое соотношение, интенсивную величину. Внешнее и внутреннее, в данном случае, тождество и самое лучшее равновесие. Мысль о собственном самолюбовании у Нарцисса добросовестна, она есть забота о том, чтобы выразить самолюбование, – но забота уже иное понятие. Самолюбование отражено в «заботе» зеркально, и после того, как Нарцисс выразил заботу о самолюбовании, он приобретает второй акцент. Добросовестная забота о самолюбовании преследует ту же цель, что и Нарцисс, и наследует безусловность Нарцисса. Безусловность является неизменной прямой линией Нарцисса, всегда равной самой себе. Нарцисс продолжает обладать этой неизменностью, в то же время больше не равен самому себе. Нарцисс тоже имеет содержание и форму. Нас в данном случае интересует изменчивое содержание… Бесконечная Надежда на бессмертие Нарцисса достаётся добросовестной заботе о самолюбовании… Нарцисс любуется своей заботой до полного самопожертвования. Надежда на бессмертие зеркально – это воля к смерти: и в итоге метаморфозы, когда Нарцисс разделил себя на добросовестную заботу о самолюбовании и на самолюбование, добросовестная забота о самолюбовании любуется «собой». Сила Надежды на бессмертие Нарцисса течёт… не туда. Это – не абсурд, а нонсенс, который производит смысл в избытке…
В итоге совесть заботится о чужом Нарциссе, который есть структура восприятия мира для собственного Нарцисса. Забота о структуре восприятия мира – именно то, что совесть должна делать. Так происходит на большой глубине, а на поверхности это выглядит иначе. Нарцисс достиг цели, когда разделился на себя и на совесть, воплотил самолюбование, выразил себя. Успех отождествил его с самолюбованием; всё зажглось и работает, но желание Нарцисса вывернуто наизнанку. В результате совесть воплотила собственное любование «другим». Нарцисс натыкается на совесть, совесть натыкается на Нарцисс: «Желание – причина страданий».
Совесть безусловна настолько же, насколько безусловен Нарцисс. Между ними незыблемое тождество, которое подтверждается борьбой за внимание, но выраженный смысл является ложью. Самолюбование Нарцисса – ложь, и любование «другим», выраженное совестью, – ложь… Кажется, Нарцисс против лжи ничего не имеет: он – не совесть. Совесть делает вид, что она против лжи, но я – не Гадкий Утёнок. Это такая же ложь совести, как ложь Нарцисса: «Я – самый, самый!». Совесть претендует быть лживой. Это должно относиться к ней, как к содержанию; как форма, она – прямая линия заботы о другом полюсе. Это могут быть сиюминутные эмоции или просто «другой», как структура восприятия мира. Совесть – такая же неизменность, как и Нарцисс.
Ложь сиюминутных эмоций совесть может не преследовать, «другие» могут снисходительно к ней относиться, – но целования Леонида Ильича, на самом деле, – рациональность, – а не сиюминутные эмоции… Её преследует совесть издевательским смехом. Менталитет ставит подножку дискурсу перехватывает инициативу, начинает резвиться на его «правильно», которое стало «некрасиво». Рациональность дискурса представляет всегда «жертву» для менталитета, а он, как сиюминутные эмоции, являются «жертвой» для дискурса.
Если что-то, как эмоции, было отложено, – это способ ориентироваться не на себя, но Нарцисс является иным соотношением с другим, он предлагает «другому» ориентироваться на себя. Его воля к самолюбованию учитывает «другого», как структуру восприятия мира, как-то иначе, чем совесть. Всё запутано, но исследовав совесть и Нарцисс, мы нашли их тождество. Совесть и Нарцисс следует определить, как концепты.
Тождество – основа формальной логики, – но благодаря тождеству мы ещё не мыслим, а только узнаём: А=А. Это – акт внимания и начало логики. Внимание «треснуло», подчиняясь смыслу, который приходит первым, как в своё время совесть и Нарцисс.
Понятно, что совести и Нарциссу нужно оттягивать внимание на себя, деформировать в свою пользу. Каждый из них навязывает ему свои ценности, которые искажают логику, но логика остаётся какой-то неизменностью, хоть и отменяется… Ценности логоса совести и Нарцисса тоже неизменны, друг друга сменяют только в результате борьбы за внимание. Кажется, что логике вообще нет места в структуре эмоций, если таким местом не является связь эмоциональных полюсов. Мы должны констатировать, что смысл, который приходит первым, совместно противопоставляет логике ценности совести и Нарцисса.
Неизменность логики позволяет подозревать за ней какой-то простой смысл.
Логика преданности каким-то оценкам в некоторых случаях доходит до логики бреда, до позитивных и негативных галлюцинаций, но в принципе дискурс тоже приводит индивидуальные галлюцинации к какому-то общему знаменателю. При этом между совестью и Нарциссом идёт борьба за ложь, как за выраженный смысл. В итоге выигранной борьбы совесть заставляет Нарцисс любоваться честностью. Нарциссу всё равно, чем любоваться. Его резервация в дискурсе – красиво. Правильно – тоже резервация, но уже для совести. В дальнейшем мы будем именовать их не только концептами, но и координатами сознания… В случае с петухом совесть вдруг активизировалась и прерывает работу сознания. Мой Нарцисс планирует победу над петухом, но отправляется в тень. Кажется, борьба координат за внимание проиграна одной из них с самого начала. В моём случае её проиграл Нарцисс. Совесть фабриковала его образ то, как Гадкого Утёнка, то, как болвана, теряющего опыт при игре в карты. Что хотела, то и врала… Иногда я с презрением вспоминал о совести. Это, видимо, было мнение моего Нарцисса. Их борьба – ницшеанская воля к власти в чистом виде… Как Нарцисс, я неуклюж, почти никакой гибкости с самого детства. Именно в детстве я и был неуклюжи, развитие Нарцисса, как координаты, тогда остановилось. Врать мой Нарцисс умеет только самому себе, при этом он себе доверяет, как маленький, а совесть ему врёт, что хочет. При этом он и ей доверяет, как маленький. Мой Нарцисс различает ложь «других» – даже рациональную – только после долгих тренировок. Овладевая вниманием, он «ведётся» на какое-нибудь «правильное» враньё, но, если внимание оседлает совесть, я буду мудрым, как змея. Меня ничто не проведёт. Я тоже говорю другим только то, во что вовлечённо верю. Это может оказаться только мудрой эмоциональной ложью. Как этот идиот – мой Нарцисс – покупал себе вещи в СССР? Обувь давила, он всё равно её выбирал, если она нравилась внешне. Тело терпело, – сам Нарцисс и терпел этот «гламур». Совести всё равно, в чём я буду ходить. Она заботится о «других». Купить в СССР что-то красивое было трудно. Это – моё оправдание, но почему «этот идиот» так долго учился покупать обувь, когда выбор уже появился? Глаза вцепятся в понравившиеся туфли, все остальные соображения отключатся, торговцы скажут: «Хорошо! Хорошо!», – и обувь по-прежнему давит. «Люди сами себе устраивают проблемы – никто не заставляет их выбирать скучные профессии, жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли». (с)
Складывается полное впечатление, что у моего Нарцисса нет доступа к ресурсам мышления из-за того, что он – маленький, остановился в развитии… Я захожу в кинозал. Экран уже светится. Пустых мест множество, совести всё равно, куда я сяду, этим пользуется Нарцисс; в конце концов, плюхнется куда-нибудь… потом пересядет: «суета сует и томление духа». Люди, хотя бы, умеют себе поесть приготовить, а я всю жизнь – только яичницу жарить.
Этот маленький идиот не умеет о себе толком позаботиться. Что он значит – мой Нарцисс? Совесть подгоняет его самолюбование под свои представления, а собственные навыки у него, как у ребёнка. Мой Нарцисс служит радостям совести… всё, что выражено в сознании, ложь с клеймом ведущей координаты.
Это было на даче: швабра куда-то задевалась… Уборщица попросила меня и ещё кого-то протереть пол под кроватями в углах у стенок, где она сама не доставала. Я залез, повозил тряпкой, но пол быстро кончился, едва успев мне понравиться своим влажным блеском. Я стал возить под другими кроватями, где уборщица уже доставала с двух сторон, я вообще в проходах стал возить и перепугал уборщицу, «эксплуатирующую детский труд».
Когда убирать стало негде, моя голова кружилась от усталости. Мне даже противно сделалось. Без сил я присел на крыльцо дачного домика, но порядок проник в мою голову, стал основанием для нового мышления. Я вдруг испытал эйфорию от упорядоченности бытия… Показалось, что все вокруг нарушают порядок: мальчишки ели мелкую облепиху, резко трещали ветками на дереве, почти ломая их. Дерево было старое, кривое, ягоды – кислые, ничего этого было не жалко, но я сделал им замечание, как воспитательница. Они меня даже не поняли и с веток не слезли Вступая с ними в физическую борьбу, я мог получить замечание, и не стал нарушать порядок, примирившись с его относительностью. Ещё девчонки бесполезно визжали и бегали друг за другом. Мир покосился в моей голове: порядок во всём нарушался. Моя заслуга перед ним тоже была ничтожной: пол скоро затопчут, он уже высох и перестал блестеть. Но, пока я сидел на крылечке, переживая хаотизацию мира, усталость немного прошла. Я тихонько побрёл по дорожке, потом отвлёкся и сам предался какой-то глупости. Впоследствии я чувствовал себя правильным, только получая пятёрки.
Гламур с акцентом на его правильности быстро приводит меня к изнурению, подавленная координата, получая доступ к воображению, не способна этим воспользоваться: такое впечатление, что у меня доступ к ресурсам гибкого, как у змеи, мышления иногда пропадает.
Скорей всего, гламур меня утомляет, потому что внешне крикливый. Крик – сила звуков, а у моего маленького Нарцисса мало сил, чтобы вести борьбу с внешним. Я против звуков вообще: это выражается в том, что их избегаю, скрывая отношение к протекающей реальности, как в тот раз, когда шёл в гости с мамой. Это у меня непременное условие равновесия со средой. Чужое мнение представляется мне объективной реальностью. Эта реальность нередко совсем не отражает положение дел, которое можно представлять себе иначе, и возникает мучительная двойственность: я оказываюсь между двух реальностей. Мой выбор – принимать трансцендентальную идеальность «другого», как эмпирическую реальность. Трансцендентальная идеальность, действительно, включается в эмпирическую реальность, но это только акцент. Может быть и наоборот: эмпирическая реальность может включаться в трансцендентальную идеальность. Именно так включают её автохтонные Нарциссы. Моя собственная трансцендентальная идеальность представляется мне факультативной. Если собственное мнение не выражать, то равновесие со средой неплохо поддерживается, но, если мнение будет высказано, то станет железобетонной реальностью, тоже норовящей быть для меня объективной проблемой. Это отношение к делу неуклюжего Нарцисса. Всё нормально, если мнение остаётся в области невыраженного смысла, но после того, как оно высказано, я становлюсь неудобен самому себе. Я нелеп в этот момент, как дети, публично выражающие своё мнение среди взрослых. Это можно определить, как жёсткость сознания. Мой неуклюжий Нарцисс отвечает за эту жёсткость, но при этом его нарциссическое мнение выражает что-то «правильно». «Бесформенное, лишённое очертаний дно поднимается на поверхность вместе с индивидом. Безглазое, оно здесь, уставилось на нас. Индивид отличается от него, но оно себя от индивида не отличает, продолжая брак с тем, кто с ним разводится. Оно неопределённо, но прилипает к определению, как земля к ботинку…». (Делёз).
Моя ведущая координата при внутреннем использовании, развитая и гибкая, тоже коррелирует с жёсткостью сознания в поведении. Ведь, правда – одна. Совесть должна отстаивать её жёстко. Я – единое существо. Это вклад в работу моей психики со стороны Нарцисса, но, благодаря привычке скрывать эмоции, я жёстко представляю внешний мир: ни шагу вправо, ни шагу влево. Возможно, это и не Нарцисс, а первый этап развития моей совести. Сознание, конечно, само по себе у меня не такое дебильное, но отмена каким-то мягким способом высказанных мнений – своих и чужих – рассматривается мной с презрением. Эти мнения уже существуют во вне. Жёсткость – фактура моего сознания, обращённого вовне, и совещательный голос у высказанных мнений не предусмотрен. Мне нужно мучиться, чтобы переставить акцент в мнении с решающего на совещательный. В изменении статуса высказанных мнений всегда присутствует неприятное напряжение.
Эти стремящиеся к однозначности представления о мире и о себе дают довольно курьёзный эффект. Я кажусь себе младше других, я «заморозился», как маленький. Фактура сознания и возникла, когда я был маленький, но недавно я заметил, что существует и прямо противоположный смысл: я старше многих в этом мире «других».
Итак, в моём случае «истина» имеет жёсткое определение, но совесть требует, чтобы я был мягким для «другого». В то же время, чтобы укрывать меня и «другого», у неё слишком короткое одеяло, поэтому мир обёрнут ко мне жёсткой стороной. На самом деле, как человек с жёстким мышлением, я не склонен «вытирать слёзы» и другим, я просто не умею этого делать. Моя мягкость с ними оказывается внутренним, почти невыраженным свойством, я просто не делаю им ничего плохого, по моим представлениям.
Не все личности складывались, как я. Кто-то сделал ставку на отчаяние, не стал подавлять эмоции, и сопротивление принесло результат. Нарцисс выразил эмоции и победил! Мнение маленького Нарцисса повергло мнение «другого», представление о «другом» тоже повержено, после этого и опыт у малыша накапливается по-другому, чем у меня. Мир представляется мягким Нарциссу, его можно деформировать. Нарцисс деформирует обстоятельства под себя, активно ведёт себя с «другими», психологически «возвращается» в тот случай, когда маленьким добился своего.
Если моя психологическая жёсткость существует в сознании, как молчание, то активность в поведении Нарцисса существует, как крик. Это – преобразившийся, отчаянный детский плач. Считается, что в трёхлетнем возрасте дети впервые сознают себя личностью: «Я – сам!». – и взрослый Нарцисс нередко ведёт себя, как трёхлетний ребёнок, шумно добиваясь своего. Когда я «выбирал» ведущую координату, мне было два: вместо шума я выбрал тишину. Есть и Нарциссы, которые не кричат, добиваясь своего, это видимо, связано с личным опытом. Ребёнок смог получить то, что захотел, просто выразив мнение, его родители оказались не «глухими» и не «слепыми». Такие Нарциссы умеют договариваться…
Эмоциональная ложь не подавляется окружающими, но Нарциссам нередко случается выпрашивать отношения. Впрочем, по-другому они и не возникают, потом выраженное по объективной причине оказывается ложью. Когда я иду в гости в колючей шапке, я не выпрашиваю к себе отношение, но тоже скрываю правду от мамы. Мы врём с Нарциссом по-разному, но врём обязательно. Если бы я, как Нарцисс, разрывал себе грудь плачем в тесном пальто, я бы тоже врал, но уже самому себе, что так поступать правильно. Я бы вычёркивал существенную часть своего опыта. Видимо, это и делает Нарцисс, когда шумно добивается своего. Прежде всего, он врёт себе, потом его совесть начинает считать это нормой в отношениях и с «другими», и Нарциссы врут окружающим, как Хлестаков.
Мы всегда выражаем ложь, и Нарцисс демонстрирует это с самой прямой определённостью, но, когда этот заносчивый субъект оказывается «на грани», другие начинают его спасать. Это – мистика сиюминутных эмоций, которые не преследует совесть. Нарциссу буквально воздаётся по вере, и ничего другого от окружающих он не ждёт. Я запутываю сиюминутные эмоции в себе, откладывая их, бегу от них по рациональному лабиринту, который у меня, как прямая линия, а Нарцисс начинает с сиюминутных эмоций. Они у него, как прямая линия.
Об этом приходится иногда слышать. Какая-нибудь приличная старушка ворует в супермаркете. Вся её приличность и приличный возраст оказываются ложью… но приличный вид свидетельствует, что старушка хорошо разбирается в эстетическом дискурсе, это – не воровка, пропившая мозги. Возможно, старушка всю жизнь загоняла сиюминутные эмоции в дискурсивный лабиринт, преуспела в приготовлении кулинарных блюд, научилась хорошо разбираться в сервировке стола, в назначении ножей, вилочек, в этикете, ситцах, фасонах, собачках и кошечках, но сиюминутные эмоции выбрались на «позор», проложили себе дорогу сквозь все невозможности.
Старушка, воруя, испытывает подлинные сиюминутные эмоции. Нарцисс привык к активности. Мелкое воровство – способ порезвиться на дискурсе, который всю жизнь резвится на Нарциссе в виде правильного гламура. Моральное осуждение в качестве ответственности можно как-то пережить, если попадёшься. Это только шаг в направлении смерти под рациональным контролем вранья, которое сами окружающие и обеспечат ссылками на возраст, болезнь… Дискурсивные истины Нарцисс практикует, как свои увлечённые убеждения, например, коллекционирует что-нибудь. Это дискурс обычно с эстетическим уклоном и связан с эмоциями, которые можно откладывать, потом к ним возвращаться, – способ «откладывания» эмоций, их пребывания «под контролем» Нарцисса. Коллекционировать можно и всякий хлам, складируя по полочкам и вешалкам, и жить в его окружении. Эти «запасы» как-то успокаивают сиюминутную тревогу Нарцисса. Получается, что он не только Хлестаков, но и Плюшкин. Присмотреться бы к остальным героям Гоголя… Возможно, это галерея Нарциссов.
Если Плюшкин демонстрирует некую неразвитую рациональность, девиз которой: «когда-нибудь пригодится», – то совсем не обязательно, что она – только не развитая у Нарциссов. Остап Бендер, например, на последние деньги купил Зосе букет цветов после того, как Корейко от них сбежал: «Если нет идеи, а её нет, эта сумма ничего не решает». Таких примеров в литературе много, значит, и в жизни есть такая «красота»: «Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться в другой мир под звуки струн, окружённым хмельными красавицами и лихими друзьями». (М. А. Булгаков). Собирать всё, как Плюшкин, – это «правильно», но без «красиво» оно не бывает: «На последнюю пятёрочку найму я тройку лошадей, дам я кучеру на водку, погоняй, брат, поскорей…». Красиво тратя последние деньги, Нарциссы проявляют волю к смерти. Они презирают опасность во имя чести: «сердце женщинам, жизнь королю, душу Богу, деньги ростовщикам, а честь себе самому». Смысл этой максимы может быть беспощадным и абсурдным: «Мне сегодня удалось не убить человека», – говорит Томас Джордах у Ирвина Шоу в «Богач, бедняк». Это был какой-то мафиози, который смертельно ранил самого Джордаха. Всю жизнь таких личностей, как этот мафиози, Джордах попирал и побеждал, но какой-то дискурс его одолел и стал делом чести. «Честь» – это другое имя «воли к смерти».
Самый известный манифест Нарциссов: «Смело мы в бой пойдём за власть Советов, и как один умрём в борьбе за это…». Манифесты вообще формулируют «волю к смерти», и ничто не мешает представлять Нарцисса несуразным. Более того, эту несуразность Нарциссы осознают: «На ровном месте получать за нихуя по роже, особым надо обладать талантом божьим. Не каждому дано, избранников так мало, нести, как флаг над головой разбитое ебало. Во имя счастья на планете, за будущность потомков – ходить, заёбывать до смерти ублюдков и подонков… («Дар Божий» Х.З.). Это свидетельство того, что свою нравственность Нарцисс способен осмыслить. Мне не удержаться ещё от одного примера:
«Молодость! Молодость! Я заявился со своим первым произведением в одну из весьма почтенных редакций, приодевшись не по моде. Я раздобыл пиджачную пару, что само по себе было тогда дико, завязал бантиком игривый галстук и, усевшись у редакторского стола, подкинул монокль и ловко поймал его глазом. У меня даже где-то валяется карточка – я снят на ней с моноклем в глазу, а волосы блестяще зачёсаны назад. Редактор смотрел на меня потрясённо. Но я не остановился на этом. Из жилетного кармана я извлёк дедовскую «луковицу», нажал кнопку, и мой фамильный брегет проиграл нечто похожее на «Коль славен наш Господь в Сионе». «Ну-с?» – вопросительно сказал я, взглянув на редактора, перед которым внутренне трепетал, почти обожествляя его. «Ну-с, – хмуро ответил мне редактор. – Возьмите вашу рукопись и займитесь всем, чем угодно, только не литературой, молодой человек». Сказавши это, он встал во весь свой могучий рост, давая понять, что аудиенция окончена». (С. Ермолинский, «Записки о Булгакове»). М. А. Булгаков способен выражать эмоции, как никто другой, и он собрал большую коллекцию невыполненных договоров с издательствами. Эти бесполезные договоры могли как-то его балансировать, как отложенная возможность заработать, но бесполезность для Нарцисса откладывать эмоции – очевидна. Максима Нарцисса тоже была выражена Булгаковым в чистом виде в эпиграфе к пьесе Дон Кихот: Люди выбирают разные пути, один, спотыкаясь, карабкается по дороге тщеславия, другой ползёт по тропе унизительной лести, иные пробираются по дороге лицемерия и обмана. Иду ли я по одной из этих дорог? Нет! Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не честь.
Одна из форм лжи – тактичность, – но из-за выражаемых по-разному эмоций тактичность Нарцисса и человека совести выглядит тоже по-разному. Нарцисс говорит громким голосом, а ссорится спокойным и даже тихим. Человек совести ссорится «по-честному». В. В. Жириновский – несомненный Нарцисс. По словам В. В. Познера, он вежлив в своей речевой деятельности, но, когда Жириновский совсем уж вежлив, пора рвать когти. В следующий момент можно получить по голове. Вот, когда Владимир Вольфович громко выступает, – никакой опасности нет. Выражая себя, Жириновский выглядит ярко, но дерётся рационально: никому основание черепа не проламывает…
Нарцисс может быть не честен с другими, деформируя мир под себя, но и запутывается в лжи, а не только других запутывает. Можно, как Хлестаков, врать, что к тебе двадцать тысяч одних только курьеров, но потом приходится бежать, как по тонкому льду. В то же время Нарциссу стыдно чувствовать страх. Он – человек чести.
Человеку совести страшно чувствовать стыд. Скрывая свои подлинные эмоции, человек совести не запутывается, по крайней мере, во внешней лжи. В этом его преимущество перед Нарциссом… С помощью лжи деформацию реальности не скроешь, но эмоциональная ложь всё-таки удаётся Нарциссам. Все понимают их, как самих себя, их можно презирать только понарошку, но Нарциссам всё равно нужно убегать, уступая место объективности, которую Нарциссы вполне осознают, потому что, хотя бы, раз кратко проговаривают… Если человек совести кратко лжёт в потоке речи, то Нарцисс кратко говорит правду. Ложь он повторяет, но ничего из того, что повторяет, не собирается делать. Это – способ поддерживать тонус в беседе.
Мимика Нарцисса складывается тоже иначе, чем у человека совести. Нижняя губа не поджата, в лучшем случае кривится. Нижняя выпяченная губа вообще характерна для ярко выраженных алкашей. Ещё Нарциссы грузят других своими проблемами: не удивлюсь, если среди нищих и попрошаек – одни Нарциссы. Люди совести на окружающих надеются, но совесть не позволяет им просить. Хотя выраженная тактика людей совести рассчитана на совесть и мораль, как на способ взаимодействия с «другими», – это какая-то ложь… Условная мораль, на самом деле, разъединяет людей, и человек совести дистанцируется от неё, внутренне дистанцируясь, тем самым, от «других». Кажется, что под воздействием условной морали человек совести должен отдать то, что не собирался, но умело уклоняется. Это – про Нарциссов: «нищелюбивая купчиха». Нарцисс то натягивает маску условной морали на «других» и собирает ништяки, то на себя её натягивает, – и маска резвится на нём. Так, что сказать, что он просто циничный обманщик – не получается.
Нарциссы выбирают мелкие грешки в качестве выраженной тактики: некая аморальность сближает их со структурой восприятия мира, с другими: вместе выпить, покурить, анекдоты опять же… Такая тактика, вроде бы, не предусматривает условную мораль, но связано поведение Нарциссов с ней более крепко, чем у людей совести. То, от чего уклонился человек совести, сделает Нарцисс. Быть ярким во всём – его крест. Не смотря на то, что в Нарциссе «вдруг» начинает голосить воля к смерти, он сам тоже готов всех жрать во всякое время. Эллочка Щукина, например, была готова в нарядах перещеголять хоть миллионершу. Она – безусловный Нарцисс. Эллочка знала тридцать ярких слов, «съедала» мужа на корню, в то же время находила для него тёплые слова: «Вы поедете в таксо!?».
Плотоядность – суть сиюминутных эмоций, – но вкушать плоть и кормить собственной плотью – это зеркальное отражение. Кажется, инженер Щукин уклонился… Пока Людоедка осталась без другого, а для Нарцисса это смерти подобно. Он не может жить без восхищения, а высшее восхищение – это любовь; значит, – «другой». Как Нарцисс может себя не навязывать «структуре восприятия мира»? Певица Наталья Медведева, например, вернувшись из эмиграции в Россию, в интервью «Акулам пера» сказала: «Надо любить свою Родину», – при этом в тот момент она навязывала настолько немыслимое для «Родины», что даже «Акулы» подавились. Она всё правильно делала, но на тот момент слишком «круто».
Дискурс становится «голосистым», когда «правильно и красиво» расходятся, а для Нарцисса они всегда расходятся. Действующий дискурс для него – расходящийся и «голосящий». Нарциссы делают то, что другие себе даже представить не могут, а люди совести объясняют то, что не видят другие. Это выражается в словах и людьми совести, и Нарциссами, но речевая деятельность имеет разный пафос. В одном из своих интервью А. Зиновьев говорит о социальной эффективности советской системы: «В хрущёвские и брежневские времена население страны выросло на 106 миллионов человек. Пришли голенькие, с отличными аппетитами, и страна выдержала. При объединении Германии прибавилось 17 миллионов человек, хорошо одетых, сытых, с хорошим уровнем жизни, – сразу рост цен, повышение налогов.». Антисоветчик Зиновьев не позволяет себе подгонки мышления под позицию, лозунг такого мышления: «может быть и другое». По Камю, это – «метод анализа». А вот Солженицын прямо заявляет: «вывод, к которому придёшь, известен заранее». Лозунг такого мышления: «Я – самый, самый!». Это – метод познания, по Камю.
Я гадаю, где мать приобрела свою скрытность? Скорей всего, это было в детском доме. Она жила там в самом нежном возрасте: с четырёх до восьми лет. Дед был на фронте, своя мать умерла во время войны, баба Нюра была у них приёмной матерью уже после войны. К четырём годам выбор координаты состоялся, и этот выбор не может измениться. Мать – Нарцисс, но наподобие Плюшкина. Я допускаю, что кто-то из представителей совести произвёл на неё впечатление своим умением не «высовываться» и выживать в большом, голодном коллективе детского дома, пока она была сиротой. Люди учатся вести себя у структуры восприятия мира, набираются опыта у «других».
Мне трудно судить, как подражают Нарциссы людям совести, не смотря на опыт матери перед глазами, но я достаточно точно представляю себе, как это выглядит в случае подражания людей совести манере Нарциссов. Нередко те ведут себя громко, вызывая тревогу, и, подражая, люди совести эту тревогу превращают просто в ужас для себя. Их можно даже принять за Нарциссов по ошибке. Люди совести не имеют и таланта к комплиментарности, которая свойственна Нарциссам. У них есть какие-то свои эффективно работающие механизмы проявления уважения, но рациональная комплиментарность, симулирующая восхищение «другим», скорее, отталкивает, так что не всякое подражание удаётся.
По-моему, мать стала скрытной, кому– то подражая, потом мы просто совпали. Она психологически навсегда осталась сиротой, в этом мы опять оказались похожи. Это совпадение сказалось в том, что мы не умеем просить и жаловаться. Прежде всего, этого не умеют именно дети-сироты, а вот дети-Нарциссы, выросшие в хороших семьях, виртуозно умеют хныкать до самой старости.
Сироты-Нарциссы расставляют в своём общении немыслимые акценты, судорожно симулируют юбилейность в отношении «других». Такая любовь к окружающим, доходящая до слабоумия, вызывает у тех изумление. В конце концов, сироты достигают обратного результата, возбуждают раздражение и неприязнь к себе. Я как-то прикинул на себя их манеру общаться и почувствовал опустошённость, которую невозможно выносить долго.
Юбилейность – это гламур. Меня гламур изнуряет, возможно я – плохой эксперт, но такое поведение Хаббард определил, как «неразрывное слияние с другими людьми в целях выживания», – закон афинити. Кажется, что мы с ним говорим об одном и том же.
Судя по тому, как мать вела себя после работы, есть и закон: – не общаться. После «юбилейности», дома она отключалась и отдыхала, сразу опустошая внимание, не замечала меня, не замечала карточных друзей… Возможно, на работе мать не доводила судороги общения до грани презрения к себе, ибо скрытная, но её там как-то подчёркнуто уважали, – по-моему, плохой признак. Дома она всё равно отдыхала. Её реплики, которые вынуждались мной, напоминали раздражение.
Условия, в которых вырос человек, коррелируют с двумя способами личного восприятиями жизни – импрессионизмом и экспрессионизмом. Импрессионистское восприятие мы находим у Свана – это очень приятная личность. Такое же восприятие жизни Бунин приводит и от лица крестьянина в повести «Деревня». Импрессионистами или экспрессионистами нас делает эмпирический опыт «другого», формирующий структуру восприятия мира.
Вердюрены, у которых Сван не нашёл понимания, основали кружок каких-то идиотических посиделок и разработали специальный ритуал отношения к «скучным». Они именуют скучными высший свет, нависающий чёрной тучей над их кружком, как знатоками искусства, но их эстетическая пошлость дана М. Прустом с точки зрения импрессиониста… Франц Кафка описал экспрессионистов изнутри. Каждое слово, жест, каждый чужой взгляд грозят экспрессионисту: человек непрерывно встревожен, ожидает беды и чувствует себя под угрозой… Тем не менее, Кафка тоже вынул зубки у экспрессионистов, их отношение к жизни показал в слишком чистом виде.
На самом деле, экспрессионисты прекрасно умеют защищаться… Вердюрены защитились и от высшего света, и от Свана. Экспрессионистское и импрессионистское восприятие жизни в одном человеке не разделимы, страхи есть и у Свана, речь идёт об акценте, о преимущественном отношении к жизни… Мне удаётся вспомнить мать в ином состоянии, чем обычно. Она была слегка навеселе и остановилась рядом со мной, улыбалась, мягко что-то говоря. При этом у неё свободно растягивались краешки губ, а не резко поднимались вверх, как обычно. Она глядела на меня заинтересованно, не пытаясь остановить эту улыбку. Мы стояли ближе, чем обычно. Я подумал, что так будет всегда… Кто-то ждал её во дворе. Она ушла, а назавтра стала сама собой. Импрессионистское отношение к жизни из неё больше никогда не выскакивало…
Воспитание – великая вещь. С бабой Нюрой можно было вырасти импрессионистом, но, кажется, было слишком поздно…
Если произвести смысловой анализ координат, мы можем заметить, что некий простой смысл претерпевает сплав в дискурсе, будучи уже искажён смыслом совести и Нарцисса. Его искажение оказывается двойным.
Присмотримся, как совесть и Нарцисс относятся к воровству, и как условная мораль это делает? Понятно, мораль осуждает воровство, но это не – императив совести. Она заботится о «другом», и всё, что позволяет другому процветать, хорошо. Если «другой» ворует, значит, процветает. При этом сама совесть не ворует: это – плохо для «другого». Но на его воровство она только ухмыляется и не замечает это грех. Со стороны совести может возникнуть осуждение на словах, направленных не на кого-то другого, а в воздух, но слова, как мы знаем, всегда лгут… Совесть испытывает удовлетворение от того, что другой процветает. Иначе говоря, картина мира предстаёт иной с точки зрения совести, чем её представляет дискурс. Нарцисс тоже волнуется по поводу воровства иначе, чем дискурс. С точки зрения Нарцисса, хорошо, когда ты воруешь и процветаешь. Когда другой ворует и процветает, он ворует, в том числе, у тебя. Борьба Нарциссов за совесть выглядит ярко! Нарцисс «голосит», производит смысл в избытке, но компромисса, который является целью дискурса, в результате не возникает, а дважды искажённый простой смысл, будто, снова становится правильным. Чистое проявление координат в нём тоже можно наблюдать в избытке: часто встречаются люди, закрывшие глаза на воровство, и часто встречаются люди, голосящие о нём в воздух: «держи вора!».
Ворующий Нарцисс показывает человеку совести, каким этот мир является, если воровать можно, в этот момент Нарцисс делает хорошо себе дважды: ярко заботится о своей «структуре восприятия мира» и повышает благосостояние. Безразличие к воровству «другого» для людей совести – тоже не яркая, но забота о «структуре восприятия мира», но человек совести может быть накрыт и собственным Нарциссом, ссорящимся по-честному за дискурс. Какое-то напряжение возникает, когда два Нарцисса воруют: не один из них не удовлетворён. Не удовлетворены и два человека совести, если не один не ворует. «Структура восприятия мира» как-то немеет. Видимым образом, расходясь друг с другом, совесть и Нарцисс в каком-то ограниченном смысле идеально сочетаются, даже возникает впечатление, что разные координаты могут жить душа в душу и без дискурса. Человек совести кратко солжёт, Нарцисс решит, что это правда, если Нарцисс часто повторяет ложь, человек совести тоже решит, что это правда. Мир становится похож на тебя самого, зачем дискурс? Но чаще всего именно дискурс – единственный выход из положения. Честные слова друг друга они истолкуют превратно… Человек совести и Нарцисс каждый по-своему понимают договорённость: это в их сознании выражается по-разному, и в итоге выраженная другим «ложь» вызывает справедливое негодование. Так что чаще всего именно «жертвы» дискурса являются единственным и универсальным выходом из положения.
Люди совести глухи к прямому смыслу слов, не слышат его, как сами когда-то не были услышаны. Нарциссы не понимают подразумеваний или очень прямолинейно к ним относятся, но все чему-нибудь учатся. Например, люди совести обучаются воспринимать прямой смысл слов, а не вкладывать его в подразумевание, как они всегда делают. Нарциссы, как и положено, просто упиваются подразумеваемым смыслом и громко выдумывают его сами, таким образом, ещё и навязывая. Сплав двойных искажений простого смысла позволяет избежать открытого конфликта. Невыраженный конфликт – это не ложь, это как раз то, что мы сделали… Забавно запутывается смысл, выраженный в словах…
Сознание реагирует по правилам распределения в себе координат. Подавленная координата говорит голосом ведущей, но потом, почему-то, оказывается трудно понять, какая из координат выигрывает. Если Нарциссу удалось навязать совести форму условной морали, он, почему-то, начинает ходить по краю собственного благополучия, место этого Нарцисса скоро займёт «другой». Вроде бы, самопожертвование – императив совести… А человек совести, рационально преследующий грехи «других», становится людоедом. Это, вроде бы, грех Нарцисса, его метафизическое лицо. Он, конечно, не кушает «других», только стремится поразить их, хотя бы, галстуком… Всё свалено в кучу, представляющую собой сингулярность, которая берёт верх над акцентом. Куда прячется весь смысл?
Рассказчик едет в метро с мальчиком в шапке с завязанными ушами: «Развяжи шапку, здесь тепло». Мальчик отвечает: «Я обещал маме не развязывать». Впоследствии из честного мальчика вырос Григорий Перельман. Его ведущая координата напряжена и перенапряжена. Это – совесть. Он отказался от миллиона долларов, потому что кто-то не смог вспомнить разговор, который дал Перельману в руки нить… Но чем одна координата сильней, тем другая не слабей: Григорий Перельман заставляет задуматься о себе, как о Нарциссе, ему вполне удалось привлечь к себе внимание всего мира.
Простой смысл ставит подножку совести и Нарциссу, запутывая их не только на словах… Можно сказать, простой смысл ничего не делает своими руками… прямо, как Бог. Совесть и Нарцисс всё время борются между собой. Мы отводим глаза от совести с презрением, от Нарцисса – со стыдом. Эта борьба пребывает в фактуре человеческой речи, один персонаж у Виктора Пелевина говорит: – Моё потребление выше! – посылая знак, сознательно или невольно. Смысл знака – нравственный и зеркальный. Нравственность участвует в речевом производстве. «Форма речи – самое главное». (Делёз).
Нарцисс, эгоист, совесть, условная мораль, воля к жизни, воля к смерти, людоедство, любовь… – ставят разные смысловые акценты на одно и то же. Эти двойные ноумены указывают на существование непознаваемой «вещи в себе», и этой «вещью в себе» является какой-то простой смысл… Нарцисс собой любуется, слеп от самолюбования, совесть собой совсем не любуется, скорей всего, у неё для этого глаз нет. Она считается внушением. Никто её не видит, даже Ницше, а себя совесть путает с условной моралью… Стремление к светлой точке в сознании Нарцисса тоже слепота. Христиане проецируют счастье быть с Богом на загробную жизнь, слепы к этой жизни. Светлое будущее коммунизма проецировалось на земную жизнь, но для будущих поколений… опережающее отражение действительности осуществлялось за них, и этой фикции никто не замечал. В Древнем Египте существовала «молитва слепого», которая звучала, как «Отче наш». В своём романе «Чёрная луна» Олег Маркеев тоже выводит главного героя, который убьёт злодейку Лилит, став слепым на время. Так было и в легенде: убьёт слепой.
Слепой Нарцисс натыкается на слепую совесть. Они борются друг с другом за право выразить свою незрячесть. Ирония Христа: «Если то, что в вас свет, то какова же тьма?».
Зоркость, которая возникает у Нарцисса, представляет собой смысловое противоречие, которое следует как-то понимать… Ложь и правда сходятся, и возникает истина, но не сама по себе. Я выбираю эту истину тем, что говорю, и тем, что делаю; выбираю, как мне лгать и что мне делать? Психика следует за ведущей координатой, но истина находится за пределами координат. Она сходится с каким-то простым смыслом, как неизвестным вектором, после этого соотношение координат во мне перестаёт быть заведённым автоматом. На мою внутреннюю реальность обрушивается свет.
Взаимодействие совести и Нарцисса определяется тем, что они отталкиваются друг от друга, как одноимённые полюса магнита. Чем ближе полюса друг к другу, тем сильней сила отталкивания, которая выглядит, как внешняя, для отталкивающихся магнитов. Отталкивание внутри единства совести и Нарцисса тоже производится, как будто, внешней для них силой. Между ними возникает трещина, не принадлежащая им обоим, и внешняя по отношению к ним. Предположительно, в трещине находиться интересующий нас вектор.
Гегель отдал Канту заслугу в определении мыслительных способностей – отождествления и различения, – а Кант их разделил на основе отношения к чувственности или рассудку. Мы помним, что совесть и Нарцисс совместно нападали на логику. Тем самым, они выступали, по сути, против рассудка. Они – чувственность. Совесть и Нарцисс уживаются друг с другом, как правильно и красиво, отталкиваются друг от друга, как одинаковые заряды, но их противоположность не создаёт между ними непроходимой стены, потому что они мыслят тождествами, узнают мир, – и мы должны признать, что различение – не их способность. Не смотря на свою конкуренцию, они, на самом деле, борются с различением или логикой, каждый за свой логос. Можно также сказать, что они борются за различение себя, лезут на глаза различению… Смысл идёт в двух направлениях сразу…
Если я что-то различил, я говорю: «я». При этом я не стремлюсь себя с чем-то отождествить. Я могу разотождествиться с чем угодно: с дискурсом, с социальной группой, к которой принадлежу, со сказанными словами. Если совесть мешает, я подключу Нарцисс, я справлюсь хоть с совестью. Иные люди умудряются разотождествиться даже с собственным полом, так что я – не самый способный… Я могу противостоять и совести, и Нарциссу, от чего угодно оттолкнуться, хоть эстетически, хоть этически. Я – не есть сознание. Я, возможно, – трещина между совестью и Нарциссом или безусловная сила в этой трещине…
Совесть отождествляет себя с «другим». Это внешнее по отношению ко мне, но она не знает об этом, на самом деле, отвечает у меня за внутреннее, за структуру восприятия мира, заботится о нём, как о самой себе. Нарцисс себя отождествляет с внутренним, но устремляет своё самолюбование, почему-то вовне и замечает там только себя. Внешнее меня самого является для него внутренним. Беда с этим Нарциссом, такой «оптикой» он косит себя, как траву. Но дело в том, что для меня всё различимо. Это – не моя логика, когда внутреннее гибнет вовне, а внутреннее внешнего спасаемо, в то же время я не есть только различение, чего угодно, хоть внутреннего, хоть внешнего. Я могу себя отождествить, хоть с совестью, хоть с Нарциссом. Я – сила, которая расталкивает совесть и Нарцисс, отводит их от своей судьбы. Нарцисс готов попадать во внешнюю беду, но, опережающе отражая действительность, я говорю ему в нужный момент: «Куда вас, сударь, к чёрту понесло?», – а совесть в это время спасает «другого». Иногда я смотрю на это скептически.
Мой Нарцисс попадает во внешнюю беду по какому-то закону, носит его в себе. Я мог бы хладнокровно предсказать ему судьбу, но мне не всё равно: я – не совесть. Я пристрастно отождествляюсь с Нарциссом, а он видит только свою красоту, в беду стремится, полагая её своим счастьем.
Совесть тоже ни черта не видит без меня. Моё мнение о себе, как о Гадком Утёнке, было сформировано ей, только учёт мнения Любки позволил мне изменить ситуацию. Я всё себе вообразил правильно. Если совесть, такая умная, почему она всё сама не сделала? Когда Нарциссу стало лучше, она не понесла никакого урона, как доминировала, так и продолжала…
Координаты лишены чего-то, присущего мне. Они – автоматизмы. Кстати, почему я – не Нарцисс? Почему моей ведущей координатой не стал Нарцисс? Я мог выбрать слёзы, даже был в шаге от этого, но не понимал, что Нарцисс – тоже эффективен; и, оценив перспективы, решил, что сил станет только меньше. Временами я бываю слепой, глухой и беспамятный, но я – не собственное внутреннее чувство, обуреваемое то совестью, то Нарциссом… А, правда, почему я не помню слёз, которых боялась мать? Я не заметил, что её контролирую, у меня тогда не оказалось иного выбора, кроме терпения. Это – судьба?! Ручки бы меня не выручили: дышать в тесном пальто было бы всё равно трудно. Я бы расслабился на ручках, даже задремал, но мне было важно дышать. Ходьба подталкивала дыхание: двигаться, изнывать, но двигаться! Сесть на землю – тоже не выход. Я переставал идти и опять впадал в сонливость. Всё равно трудно дышать, лучше идти, куда-нибудь.
Выбор Нарцисса, разрывающего себе грудь плачем, был нелеп. Грудь как раз стиснута. Я бы сделал себя идиотом на всю оставшуюся жизнь. Я не отказался от своих умственных способностей, я не стал надрывать грудь в тесном пальто. Вот, что я тогда сделал! Это потом совесть отключала мои умственные способности. Я в контрах из-за этого с собственной совестью… Я знал, сколько идти, чтобы вернуться домой, но возвращение произошло бы не сразу. Мать тащила бы меня за руку вперёд. Сразу идти домой очень хотелось, но главное было дышать. Я передвигал ноги по жаре с грудью, которую нельзя, как следует, расширить для вдоха, но не было другого разумного выхода, до гостей было дальше, чем до дома, но там определённо наступала передышка… После всех расчётов я не стал плакать, случайно выбрав ведущую координату, а если бы я заметил, что слёзы контролируют мать, был бы я Нарцисс…
Собирая меня в детский садик, мать стягивала шарф, завязывая узел сзади. В первый момент я ощущал лёгкое удушье, но забывал о нём, когда шёл по улице, дышал вполне нормально. Всё-таки мне хотелось иногда растянуть узел. Нужно было, чтобы он был ч мне доступен, но просьба – завязывать узел спереди – встречена отказом. Я не закатываю истерик, иду в садик с завязанным сзади узлом и чувствую себя Гадким Утёнком. Силы у меня есть на истерику, они не подорваны, но я уже избегаю выражать себя. Препирательства с матерью опережающе вызывают у меня тоску. Выбор координаты уже сделан, и этот выбор делает меня каким-то автоматом…
Можно привести и другие примеры затемнения моей способности к различению, но всё равно впечатление, что в моём внимании различения больше, чем отождествления, остаётся. Я по преимуществу тот, кто различает. Моя психическая сингулярность состоит из смеси совести и Нарцисса, а чистую сингулярность, не содержащую никакой смеси и моментов, мы не можем себе представить, но и состоящая из моментов совести и Нарцисса нападает на отчётливость логики. Внимание перескакивает с одного на другое, и логика то и дело выцветает, память тоже регулярно теряет отчётливость. Между сингулярностью и акцентами на ней происходят флуктуации.
Наша компания подростков придерживалась мнения, что толстушки – самый смак в сексе, но молодой сосед вставил в разговор свои «пять копеек» и сказал: «Худые подтягиваются и прилипают. Полные так не могут». В моём представлении секс вообще-то был унижением для женщин, но оказалось, что они сами потакают этому унижению с омерзительным энтузиазмом, что «это дело» им тоже нравится, я тогда не различил. Что ты думаешь, то тебе, типа, и говорят, – я тогда отождествил. Внутреннее чувство сравнивает всё, что ему говорят, с собой, и, по мере возможности, отождествляет. Гадость женского унижения пребывала в моей голове в прозрачном виде, она не причиняла мне вреда, но материализовалась. Я оценил потакание женщин собственному унижению, как омерзительную особенность самой жизни. Спазмы тошноты стали возникать у меня при мысли о любимом занятии человечества. Я был отравлен на десятки лет. У самого давно были сексуальные отношения, но ими я только материализовал унижение женщин, и знакомство с девушками, уколовшими меня своей красотой, рефлекторно тормозил. Представление прилипло. Много лет моим идеалом были смазливенькие.
Картина мира тогда покосилась в моей голове. Я подумал: «Он-то знает!». Интересно, что перед этим сосед казался мне каким-то гадостным. Это был новый человек на нашей улице. Вся их семья переехала из деревни, они купили дом у бабы Нюры, которая вышла замуж… Строго говоря, сосед не заслужил моё презрение, но я, будто, предчувствовал, что он причинит мне вред, и испытывал к нему отвращение уже заранее. Некий противный звон, будто, сопровождал соседа. Он сразу показался мне какой-то гадостью. Мистика, – что на самое ценное представление моей жизни, действительно, распространилась гадость…
Новые соседи просто оказались на лично мне близкой территории бабы Нюры. Я, почему-то, внутренне стал относиться к деревенским свысока, хоть и не жлоб. Чёрт знает, что такое?! Но, почему-то, подавленная координата из меня регулярно выскакивала, и Нарцисс лез, как лёгкое пренебрежение. У соседа был младший брат – мой ровесник и сестра – ровесница. Я испытывал лёгкое презрение к ним ко всем.
Сингулярность стремится к неразличимости. Моё ведущая координата во мне растворяется, растворяется… Я вдруг перестаю быть человеком совести. Я также стал более Нарциссом с помощью Любки. Почему её слова, что я симпатичный, послужили просветлению, а сосед, тоже раздвинувший мне горизонты, только затемнил сознание? Структура восприятия мира – «другой» – в одном случае губит, а в другом спасает… Слова «других» оказываются серьёзным фактором на долгие годы. Дело не в пресловутой лживости слов. Других слов просто не существует.
«Другой» – структура восприятия мира. Это ещё не значит, что я не согласен на его смерть. Он сам грозит мне нападением… Нападение может иметь вид помощи, сингулярность стирает акценты. Доверчивость, как дар небес, сияет в глазах детей и детёнышей животных, но жизнь приносит опыт и меняет доверие на свою противоположность. В глазах взрослых особей свет доверия гаснет… личная история, будто, землёй его засыпает. Собственный опыт уже отождествляет доверие и Надежду на бессмертие с напряженным выживанием. Вместо безоглядного доверия к «другим» возникает инстинкт самосохранения. Но, в структуре восприятия мира «другой» не исчезает бесследно, он претерпевает метаморфозу. По-прежнему, согласие на смерть «другого» оказывается равнозначно согласию на свою смерть. Структура восприятия мира – это серьёзно. Мы связаны друг с другом надперсональным слоем психики, по Юнгу. Индивидуальное сознание не контролирует эту связь. Самосохранение оказывается чем-то легковесным по сравнению с ней, включающей в любой момент в нас волю к смерти… Сознательно согласие на свою смерть давал «Очарованный странник» у Лескова, ему очень хотелось помереть за русский народ, но это был императив Нарцисса. Связь через надперсональный слой психики иногда проявляет себя у Нарциссов опять ярче, чем у прочих.
Чужой опыт для ребёнка имеет тот же смысл, что и свой собственный. При этом чужой опыт случайно затемняет или просветляет сознание на основе доверия. Слова Любки послужили просветлению, апеллировали к моей сиюминутной эмоциональности, слова соседа запустили отложенные на будущее рациональные эмоции и затемнили всё. Примеров «затемнения» и «просветления» существует довольно много и в литературе, такое явление не могло быть не замеченными. «Человек-патефон» у Салтыкова-Щедрина требует «молчать», «не допущать», «ходить строем»; по сути, добивается, чтобы другие вели себя рационально. Это – затемнение. Эмоции запрещаются. «Человек в футляре» Чехова выражает только одни бесспорные истины: «Лошадь кушает овёс». Это тоже – рациональная охранительность от других каких-то мыслей. Такая рациональность, будто, лабиринт для них. Перед нами снова свихнувшиеся Нарциссы, что-то голосящие. Что они там в себе гасят? Ещё в интересах затемнения в себе сиюминутных эмоций можно всю жизнь собак и кошек разводить. Это – тоже исключение непредвиденных эмоций. Животные вызывают их, но «под контролем». Это – как войну по телевизору смотреть.
Фильм «Игра» Дэвида Финчера, наоборот, о попытке извлечь человека из футляра. Им стала лакированная жизнь.
Пожалуй, сиюминутные и отложенные эмоции себя взаимно гасят и увлекают друг друга в сингулярное состояние полной бесформенности… В результате этого внутреннее чувство затемняется и просветляется, но не содержит понятия своего предмета – логической истины.
Когда речь заходит о «демоне» в фильме «Револьвер», приятель говорит Джейсону Стетхему: «Самая гениальная разводка с его стороны – доказать, что он это ты». Низкий басистый смех мужчин и женщин – ежедневный выход этого «демона». Это – рациональное проявления эмоций на публику. Демон говорит нашим голосом, сверкает белками наших глаз. Рациональное проявление сиюминутных эмоций – нонсенс, а вовсе не абсурд, – порождает смысл в избытке. Можно сказать, весь дискурс – рациональное проявление эмоций. Жизнь кажется тяжёлой и бессмысленной каторгой, но «демон» вцепился в её условие мёртвой хваткой. Люди много кушают и пьют: всё равно не могут выпустить сиюминутные эмоции на волю… Кругом пузатые или пьяные, а эмоции всё равно рациональные. Эмоциональное убожество «демона» натыкается на его рациональное убожество… Жалость к себе заставляет людей вести себя нерационально, например, заедать стресс. Это свидетельствует о её сиюминутной природе, тем не менее, эмоции остаются рациональными. Рациональность несокрушима, как и сиюминутность, и убога и прямолинейна, как сиюминутность.
«Заполя появился у нас в третьем классе примерно через месяц после начала занятий. До этого он учился в соседней школе, но его выгнали. По его словам, он психанул, на уроке и «запулил» в училку резинкой. В первый день мы разговаривали, на второй уже дружили, потому что всё понимали одинаково. Вообще Заполя удивил меня только раз, когда показал девочку, в которую влюбился. Я обращал на неё не больше внимания, чем на заднюю парту в третьем ряду, за которой сидела. Эта высокая второгодница вся из густых красок. Зелёные глаза с отчётливыми зрачками, как у кошки, густые чёрные брови, прямые чёрные волосы, плечи тоже прямые, длиннющие прямые руки и ноги, кожа с каким-то красноватым оттенком – на мой взгляд, сплошные недостатки. Я решил оспорить внешность второгодницы, но, к моему удивлению, Заполя отстоял и широкие плечи, и прямые брови, и большие, зелёные глаза… ещё она была на голову выше него… Он не обращал на это внимания, считал, что сам тоже вырастет. Я всё равно едва не пожалел его. Было бы глупо предлагать любить ту девочку, которую я сам любил, я удержался, но в итоге мне всё равно не удалось побороть в себе равнодушие к второгоднице и относиться к Заполниной любви, хотя бы, с сочувствием. Когда мы выросли, Заполя показал еще одну девочку, в которую влюбился. Я увидел у неё много общего с той, в густых масляных красках. Художник Петров-Водкин любил рисовать такие модели, но мне нравятся девушки, которых лучше рисовать акварельными красками. Правда, однажды произвела впечатление и такая, какая бы понравилась Заполе, в тот момент её пробивали остывающие лучи вечернего солнца. Все её краски горели изнутри. Я оценил Виталин вкус, когда его уже не было на свете…
Два года в начальной школе мы общались регулярно, потом изредка встречались. Стали учиться далеко друг от друга, а жили всегда далеко. Виталя что-то рассказывал про своего тренера по классической борьбе. Вроде бы, тот с ним серьёзно занимается. Я пропустил мимо ушей. Но мне пришлось проглотить слюни зависти, когда я увидел Заполины мышцы в шестнадцать лет. Символом красоты тогда считался мраморный Аполлон, я бы сам сошёл за Аполлона, но стоять рядом с Заполей на пляже было стыдно. Стыдно быть уродом…
Большие физические нагрузки для Витали были обычным делом. Чтобы рыбачить на острове, он переплывал Обь с сумкой закидушек, которая из-за грузи весила килограмм пять. Мне он рассказал, что однажды чуть её не отпустил на обратном пути. Когда до берега оставалось метров двадцать, силы кончились, но всё-таки дотащил… Ему было тогда лет тринадцать. Лично я переплывал множество раз ковш, который в три раза более узкий, чем Обь, и не имеет течения. Виталя мог бежать три минуты изо всех сил, потом говорил: «дыхалка» сбивается. У меня от такого бега «дыхалка» сбивалась после минуты… Окончив школу, он уехал поступать в спортивный институт, на одно место там ломилось человек пятнадцать, и не поступил. Помню летнюю жару, когда услышал об этом от бывшего одноклассника. Тот сказал, что Заполя уже вернулся, и злорадно добавил: «Пьёт каждый день». Я даже не пошёл проверять: слух ни с чем не вязался.
Но, когда жёлтые листочки уже появились, мы столкнулись с Заполей лицом к лицу в городе. Его вид заставил меня оторопеть. Кожа была «загорелой» от водки. Он даже обрадовался мне, как алкоголик, виртуозно продемонстрировал всю бестолковость пьяниц, пока, онемев, я стоял и глядел на него. Заполя воодушевлённо предложил выпить. Это, будто, само собой разумелось: Пока я не проронил ни слова, он жадно поинтересовался моими деньгами. Я выдавил, что денег нет. Упорствуя в желании отметить встречу, Заполя со вздохом извлек из потайного кармана грязных спортивных штанов три рубля и купил бормотуху. Мы пошли искать укромное место и сели на трубу теплотрассы во дворе, который был завален строительным мусором, заросшим бурьяном: «Подальше от ментов», – как выразился Заполя…
Я пить отказался, просто сидел рядом, наполняясь вселенской печалью, Заполя высоко запрокидывал бутылку горлышком вверх, похваливал «винцо». Ему и мне в каждое ухо по тысяче раз говорили, что пить плохо. Я не читал ему нотаций, просто не был с этим согласен. Между прибаутками алкашей Заполя рассказал и о том, что случилось. Интонации из его голоса исчезли… Перед экзаменами состоялись спаринги: первый поединок был с каким-то солдатом и оказался очень изматывающим. Он закончился в ничью, но Заполя растянул связку на плече и на следующий день подошёл к тренеру сказать про связку. Он думал, что тренер освободит его от спаррингов и допустит до экзаменов. Это, возможно, было вероломством с его стороны, но с другой стороны ему семнадцать лет, и в оба уха твердят о гуманности советской системы. Он, возможно, проявил к этой пропаганде рациональное отношение… Тренер освободил от спаррингов, но до экзаменов не допустил. Виталя никак не обозначил своих мыслей по этому поводу…
На самом деле, он не пил, а тушил себя, как лампу. Я не мог понять, что случилось, на мой взгляд, так резко измениться не было причин. Он предавал мать, брата, сестру, бабку, даже пьющего отца. Я чувствовал, что тоже предан, в моём сознании стало темней… По сути, мы пришли в этот мир совсем недавно, выдумывали желания. В итоге, всё выходило как-то не так: проблемы не решались нашим утлым опытом, случайные удачи, на которые можно было бы опереться в своих мыслях, отсутствовали или оставались не замеченными. Мы с Виталей, оказывается, отличались. Я не испытывал испепеляющих желаний, а он с двенадцати лет на тренировки ходил, как на работу, ему требовался какой-то статус. Мне до сих пор никакой не требуется…
Всё равно по причине возраста мы мыслили примерно одинаково, имели одну и ту же жизнь перед глазами. Отсутствие опыта тоже порождало одинаковые проблемы, но мы отличались с ним по человеческому типу: Тургенев выделил их два: – Дон Кихот и Гамлет. Дон Кихот действует, нападает хоть на мельницы, Гамлет сомневается, когда всё совершенно ясно. Когда уже всё рассказал дух отца, он колеблется. Мы так и сражались с ним однажды на шпагах у него дома. Мне досталась длинная ветка. Он взял короткий гладиаторский меч, выпиленный из доски, видимо, чтобы воспользоваться, при этом выразил уверенность, что меня обязательно заколет: «Короткий меч – самое лучшее оружие». По итогам наших поединков это было совсем необязательно, но мне, почему-то, показалось, что он знает, что существует преимущество короткого меча… Когда мы приступили, я почувствовал, что недосягаем. Кончик моей «шпаги» качался возле его груди, но я не колол, сомневался. В глазах Заполи выразился испуг быть заколотым, но меня всё равно охватили сомнения в эффективности простого прямого выпада, а других я не знал. Тогда он стал действовать, коротким мечом отбил мою шпагу и устремился вперёд. Длинная ветка на короткой дистанции стала только обузой… Подобное неделание для меня нередко было досадным, я знаю о нём, но пока я просто рос, Виталя от физических перегрузок отчаялся. Собственно, он от них и отказался столь причудливым способом, когда стал пьяницей…
У него были взгляды: помню, как он съязвил по поводу отсутствия у меня чёткой цели учить иностранные языки… Насколько в пятнадцать лет могут быть выверенными цели? Я пришёл к своей идее учить языки путём маниловской мечтательности, и лучше всего мне показалось тогда знать английский. Досадное недоразумение состояло в том, что в школе я учил немецкий, это мешало слиться в экстазе с блистательной идеей. Впереди были выпускные экзамены, а в девятом классе я не мог читать учебник за пятый класс, не до уроков мне было с картами. Сначала мне пришлось выбрать немецкий в качестве компромисса. Для изучения других языков впереди была вся жизнь. Помню, как я семь раз подряд на уроке немецкого спрашивал у соседа по парте Толи Снегирёва, как переводится слово geben. Он терпеливо отвечал. Я тут же забывал, но это стало моим первым открытым проявлением интереса к языкам. Тогда же я решил свой интерес не ограничивать фактором времени. Меня вполне устроило и расплывчатое представление о том, как можно использовать знание языков, зато я сразу придумал эффективный способ двигаться вперёд: учил по двадцать новых слов в день. Скоро я выяснил, что слова забываю, всё равно впереди была вся жизнь. Я записывал слова снова и снова учил… После школы немецкий язык перестал быть вообще обусловлен. Он стал моим идеалистическим проектом… Практический результат оказался довольно неожиданным. Я прибавил в свой словарный запас много новых русских слов, активно освоил их, запоминая немецкие. До этого слово «штучка» было моим универсальным выходом из всех положений. «Эта штучка в эту штучку», – так говорила моя мать, показывая эти «штучки» пальцами.
В следующие годы «идеалистический проект» видимым образом не привёл никуда, я бросил факультет иностранных языков, на который поступил, возможность быть переводчиком, а, скорей всего, учителем немецкого языка, меня не интересовала, а Заполя тогда добивался от меня каких-то конкретных представлений. Откуда они взялись в его голове? Версия у меня только одна: на спортивную конкретность его подсадил тренер. Он рассмотрел в нём задатки и не ошибся, привил рациональность своим взрослым авторитетом. Откладывание сиюминутной усталости во имя будущего сработало, как «затемнение» для Заполи. Нарцисс ставит мир на грань и сам идёт по этой грани. Заполя доказал, что он – Нарцисс, когда «запулил» в училку резинкой. Кажется, автохтонный Нарцисс может иметь отложенные эмоции только в каком-то неустойчивом виде. Их можно загнать в дискурсивный лабиринт, порой очень сложный, но они вдруг оказываются за пределами всякого дискурса не только у Заполи, лабиринтом для сиюминутных эмоций может быть, что угодно. Свои эмоции Нарцисс запутывает, но эмоции всё равно безусловней и выскакивают на «позор». Заполя выжигал в себе чуждую рациональность интуитивно, напиваясь до безобразия. В такие моменты он мог переживать только сиюминутные эмоции, ничего отложить в состоянии глубокого опьянения невозможно. Заполя боролся с «затемнением» в полном ослеплении, но реагировал на него ярко, как Нарцисс, став пьяницей. Он по-прежнему стремился к спортивным успехам и гордился ими по инерции, но уже, как сиюминутностью, обрубив возможность получить от спорта какую-то отложенную выгоду. Он рассказал, как боролся с мужиком в горпарке на глазах у публики… Мужик был килограмм девяносто, Заполя проделал «мельницу»… потом ещё одну… Мужик не ожидал проигрыша… Мир улыбался Заполе иногда широкой улыбкой, но это, почему-то, не побуждало его пересмотреть отношение к жизни. Как-то поздним вечером в автобусе он познакомился с девушкой, проводил до дома и после затяжного поцелуя на лавочке трахнул прямо там же. У девушки была мама и маленькая дочка дома… Такой удачный опыт следовало рационально осмыслить, но Заполя только рассказал… Из армии он написал, что курит анашу и уже не может бросить, жить после «дембеля» остался поближе к анаше. Это было рационально…
Однажды на улице мне повстречался Заполин отец вместе с братом. Я спросил: «Как Виталя?».
– Виталя умер, – сказал отец и состарился лицом.
По привычке вести себя ярко, он полез в щит с надписью «высокое напряжение», ожог первой степени составил девяносто процентов тела. Сердце билось ещё четыре дня. «Здоровый был бык!», – прокомментировал брат свой рассказ про сердце.
Потом мне приснился сон. Автобус стоял на знакомой улице, где никакие автобусы не ходят. Эти маленькие автобусы в городе тоже не ходят, только из деревни в город. Я, зачем-то, влез в него. Там сидел Заполя на задней сиденье. Он горбился и высоко поднимал плечи, но на нём не было ожогов, но я всё-таки решил, что ему больно. Возле самого входа сидели ещё два каких-то парня. Они держали себя, вроде бы, прилично, но я, почему-то, запсиховал и разозлился. Эти двое щурили глаза по-блатному, казалось, от них веет беззаконием и, почему-то, неодолимой силой. Глумливые улыбки у них то и дело сверкали. Казалось, я выдумываю силу: не было на них мышц, но один что-то насмешливо говорил, особенно выводя меня из себя. Слова блатного прямо меня не касались, но я чувствовал ужасное унижение… Второй ничего не говорил, только сверкал золотой фиксой, когда криво усмехался. Я вдруг неконтролируемо разозлился. Без всяких переходов Заполе предложил с ними драться. План был нелепый. Я не чувствовал сил на драку. Вообще, мне казалось, что еле стою на ногах, силы Витали тоже вызывали сомнение. Услышав мои слова, говоривший обернулся назад и насмешливо спросил у Заполи: – Ты будешь со мной драться? – Виталя ответил ему, а не мне, не слитно произнося слова и сильно дёргая плечами: «Я… не… могу… драться». – Ответ был вроде бы и мне.
Кажется, Заполя находился под полным контролем этих гадов. Я сообразил это своим мутным сознанием и, не вступая больше с ним в переговоры, вылез из автобуса на качающихся от слабости ногах и с качающимся сознанием. Тут я опять обратил внимание, что стою в хорошо знакомом месте. Это место было мне безразлично, но в детстве мы регулярно ходили здесь в баню. Я вообще здесь часто ходил и однажды заметил детсадовскую Гальку на веранде второго этажа в том самом доме, у которого стоял автобус. Видимо, она жила здесь. Галька тоже заметила меня и закривлялась.
По преимуществу встревоженность от затемнения сознания или уверенность в его просветлённости тоже по отдельности отличительная характеристика для людей совести и Нарциссов. Свой опыт чаще вызывает у меня встревоженность, чем уверенность, потому что он всегда ограничен, но Нарциссы чаще должны ощущать уверенность, если нападают на ветряные мельницы. Встревоженность и уверенность иногда падают ниже уровня осознания, растворяются в сингулярности… Видимо, встревоженность и уверенность – акценты на психике? Если бы внимание заметило, что я контролирую мать слезами… моя встревоженность состояла бы не в том, что я должен себя спасать, а была бы уверенностью, что мне должны… Просто зная, что я как-то контролирую мать, я мог сесть на землю, например, если плакать себе дороже, всю жизнь можно было вести себя иначе. Снимка в чулках не было бы… Я бы вынул матери затычки из ушей. Перед Нарциссом надо отвечать за «базар». Нарцисс преследует свои сиюминутные интересы, но без слёз насколько мне было возможно преследовать свои сиюминутные интересы на ёлке в том нежном возрасте? Выбрать в качестве ориентира собственные ощущения я мог только со слезами, в то же время последним основанием для меня было – не плакать. Я бы привлёк к себе общее внимание, будучи в чулках… Вообще же, плакать мне ещё легко. Когда мать решила меня сфотографировать, я удержался от слёз едва-едва… Я преследую свои интересы, иначе, чем Нарцисс, и встревожен иначе. Он рассчитывает на немедленное улучшение своего положения, а я избегаю сиюминутного ухудшения. Он – оптимист. Позже мои сиюминутные эмоции всё-таки научились прокладывать себе дорогу. Водоразделом послужил тот случай, когда я читал «Трёх мушкетёров», лёжа в кровати. Читать было бы удобней, если сесть за стол, но я подпирал голову рукой и не вставал, переживая самые разболтанные эмоции. В первый раз тогда у меня стали потеть подмышки. Это самовыражение сиюминутных эмоций привязалось, не контролируется сознанием. Но Нарциссы тоже никуда не делись от отложенных эмоций. Они подавляют, гасят их в сознательном возрасте… Так, что ничего я не потерял, был умницей с самого детства, – но была ли абсолютная закономерность от сотворения мира, что моей ведущей координатой станет совесть?
Совесть и Нарцисс прилипают ко мне, это особенно заметно на мимике лица. Я неразличимо прилип к лицевому мышечному тонусу и только льщу себя надеждой, что гармоничней, чем психика, выпучивающая один глаз и прикрывающая второй. Мимика – слепок сложившегося во мне равновесия. Когда я шагал в гости с мамой и не плакал, это было выражением опыта в ситуации, в которой я оказался. В основе опыта находилось моё внимание. Я выражал свой опыт в шагах, а не в словах – то есть в правде. Я не выражал мамино желание попасть в гости и себя не выражал… иное выражалось во мне, как отложенные эмоции. Они стали впоследствии ведущей координатой. Кто выбрал их в «ведущие», резвясь на сиюминутных эмоциях. Ведущая координата не обладает истиной, но её схватывание только определённого рода – маска этого иного «нечто». А что выражал Эратосфен, измеривший первым окружность Земли, ослепнув, он не мог больше читать свои любимые свитки в Александрийской библиотеке и перестал принимать пищу, чтобы умереть с голоду. Это было выражено им тоже не в словах… Какой-то простой смысл не нуждается в едином Голосе Бытия, по крайней мере, независим от него. Для него слова в лучшем случае, «маска», форма лжи, которую он использует, не позволяя использовать себя. Поэтому какой-то простой смысл ускользает и от всех дефиниций. Как мираж, он скрывается за дуализмом, являющимся неразрешимой проблемой философии – за двойственностью, которую нам демонстрирует структура эмоций.
Кант искал простое, чтобы из него, как из кирпичиков, построить всё мироздание, но так и не нашёл… Даже опережающее отражение действительности, к которому сознание стремится, как к своей цели, искажено «маской» из-за того, что будущее время недоступно нам, не поддаётся так просто прогнозам. Что-то такое же происходит с бесконечным пространством, ограниченным для нас, вроде бы, по объективной причине… Дефиниций истины много – логическая, практическая, конвенциональная, когерентная – нужно добавить, что понемногу истина является всем… но почему бы не добавить в этот набор и контингентность – возможность быть иным? Смысл, который приходит первым, просто требует этого.
Нейробиологи открыли в мозгу центр, отвечающий за удовольствие. Крысам вводили в мозг электрод и давали доступ к кнопке… они больше ничего не делали, даже не ели, давили на кнопку и умирали от истощения. Электрод ввели и женщине, больной эпилепсией: она тоже забыла о еде и гигиене… удовольствие одолело все акценты сознания. Можно даже не морочить голову – рациональное или эмоциональное поведение у неё было, – если различение из сознания стёрто. Активизированный эмоциональный полюс приводит к хаосу отождествления всего со всем, к сингулярности, хотя, вроде бы, он – сама отчётливость.
Различение уязвимо… Нет столбовой дороги, двигаясь по которой можно развивать различение, если только этой дорогой не является логика… Войско шло на битву, ворона каркала справа, битву проиграли. Когда войско шло на битву, а ворона каркала слева, – битву выиграли. Из этого можно сделать вывод, что дело в вороне… Реальность – это миф. Логос – акцент на мифе, но пока акценты логоса не свалились в сингулярность, они подлежат исправлению логикой. «После этого» не значит, по причине этого».
Логос сочиняется нами, потом приходит логика, говорит ему: «Здрасте!», – и он падает в обморок. Логика пронзает логос «копьём»; невостребованное добро является и наводит порядок, приводя с собой и различение. Логика – функция внимания или функция какого-то простого смысла? Внимание в процессе жизни формируется логосом: так считать правильней всего, но почему моё внимание не замечало, что я контролирую мать слезами, и допускало только определенный опыт? Дело опять может быть в каком-то простом смысле, который мы ищем и который подчиняет себе внимание. Он же лёг в основу моего внутреннего чувства и логоса ведущей координаты. Какая такая закономерность в том, что я становлюсь человеком совести? Что внимание не замечало контроля матери, говорит о том, что у него есть некая направленность. Кто вложил эту направленность в моё внимание? Случайность может оказаться очередной маской какого-то простого смысла.
Философского определения истины не существует из-за недоступности нам этого смысла, но законы логики удовлетворяют требованию «простого». Они остаются неизменными тысячи лет и, действительно, просты.
Категории разума то ли имеют отношение к логике, то ли нет. Она теряет свою стройность из-за них… Категории, скорее, диалектичны, чем просты. «Диалектика есть метод двигаться вслепую в незнакомом пустом пространстве, наполненном воображаемыми препятствиями, двигаться без опоры, без сопротивления, без цели». (А. Зиновьев). Гегель в «Науке логики» сформулировал законы диалектики, но не сформулировал категорий, считал разум единственной категорией, даже упрекал Канта, что тот включил в своё учение категории. Диалектический материализм «вылущил» категории из Гегеля.
Общим основанием категорий может быть понятие чистой материи. Количество и материя – одна и та же мысль. Материя только вносит в неё чувственный момент. (Гегель). Материя обладает тяжестью, вся материя космоса имеет выражение в гравитации… Материя космоса, по Гегелю, –количество. Что ещё обладает тяжестью и может наряду с материей рассматриваться, как одна и та же мысль? Время ожидания обладает тяжестью… «Чистая материя есть то, что остаётся, когда мы абстрагируемся от видения, осязания, вкушения, то есть она не есть видимое, осязаемое, вкушаемое…». Тем не менее, время осязаемо: давит, когда проходит в ожидании, накапливаясь, существует, как слабость и изношенность организма, в то же время это – чистая абстракция и в силу этого чистая сущность мышления. Материя перетекает из одного состояния в другое, время тоже течёт. Это тоже свидетельство о них, как об одной и той же мысли. Материя обладает массой, имеет тяжесть и вес, если не падает с ускорением. ТО же самое касается времени. Его нет для летящей со скоростью света частицы. Мы можем поставить знак равенства: чистая материя = количество = тяжесть = время. По Гегелю чистые понятия не разделены на моменты и не являются логическими. Тем не менее, чистая материя, благодаря этому ряду, содержит моменты: время, которое всё пожирает, и материя, которая неуничтожима.
Временные отношения в основе категорий наглядно демонстрирует самая неоспоримая из них – причины и следствия. Она не позволяет отказаться от идеи о категориях. Единичное и общее тоже имеет в своём основании большую или меньшую тяжесть. Если в качестве основания категорий выбрать какой-то иной принцип, кроме чистой материи, то начинается путаница. В категориях должна быть представлена только чистая материя, дуализм – её первая дефиниция, из которой проистекает диалектика.
Единый Голос Бытия – ложь, – значит, всё разрушает. И всё пожирает время, сопровождаясь единым Голосом Бытия. Столкновение материи и есть разрушение одновременно с созиданием нового, ибо чистая материя не уничтожима. Мы сами являемся акцентом на её сингулярности, вносим меру. Парадоксальный элемент ставит акценты на возможных восприятиях реальности, хоть внешней, хоть внутренней. Сингулярность противится акценту, «безразлична к нему», – как бы сказал Гегель. Парадоксальный элемент крутится волчком, устремляет на неё свой пронизывающий взор, но сосчитать количество категорий не удаётся, потому что мы включили в них меру, то есть самих себя. Если категории имеют отношение к чистой материи, они не имеют отношения к нам. Мышление – рассудочный и чувственный процесс, но время тоже абстракция и осязание. Мышление представляет временные отношения, но если какой-то простой смысл не подчиняется временным отношениям, если активней чистой материи, «резвится» на ней? Это трудно себе представить, поэтому мы сами оказываемся категорией. Представим, что это не так: – модальность не является категорией.
Мысли формулируются рассудочно, в них добавлен чувственный момент для «ясности». Приведём пример из сочинения школьника, который выражает мысль логично и рассудочно, добавляя только один чувственный момент: «План незаконной женитьбы Крота на Дюймовочке». Слово «незаконной» наполняет всё предложение «чувственным» светом, есть его мысль.
Какой логикой, например, пользуется Герасим, утопивший Му-Му? Если он решил уйти от барыни, логично сделать это вместе с Му-Му. Это всего лишь собака. Только послушание барыне служит достаточным основанием, чтобы утопить Му-Му. Двоюродная сестра Тургенева, племянница барыни, оставила мемуары, в которых сообщает, что дворник, утопив собаку, от барыни не ушёл… никто барыню не любил, в том числе, собственные дети, Тургенев выдумал частный случай крушения крепостного права, нарушил логический закон достаточного основания. Этого требовал логос, который впоследствии стал хрестоматийным: ибо сопротивление хоть пролетариата, хоть барина – тождество. По мнению этого логоса, как только в послушании дворника достигнут нравственный предел, как только чаша переполнилась, Герасим самовольно уходит в деревню. Хрестоматийные чувства являются частным случаем некой логической путаницы, которую демонстрирует Тургенев, но такие чувства – ценность с точки зрения логоса. Они – нравственность, законное основание мышления, – но не категорий, если исключить из них модальность и меру.
Чувственное мышление в качестве основания для себя, выбирает некую линию, после чего понятие «берёза», меньшее по объёму, чем понятие «дерево», может стать вообще единственным растением. Чувственность произвольно «утяжеляет» единичное, абсолютизирует что-то одно, переносит всеобщность на одно. Таким образом, категория общего и единичного запутывается и служит чувственности, как – всеобщий гнёт. Наша мера произвольно нарушает соотношения чистой материи. Никакой логики и категорий разума в этом уже нет. Это – логос. Предмет сводится к моменту, по Гегелю, представлению, этот момент обобщается до символа веры. Под таким углом зрения представление есть «сотворение кумира», в то же время упрощение объекта в перспективе манипулирования им, рационализация, но не работа категорий разума, а действие модальности и меры сознания.
Объект упрощается в мышлении, чтобы воля заработала, – но умопостигаемой становится воображаемая реальность. Таким путём изучается возможный акцент на сингулярности, миру ставятся вопросы, а ответ на них чистая материя даёт в соответствии с категориями, ничего общего не имеющими с нашей мерой. Путаница будет и здесь, ибо мир откликнулся на желание Кабирии и услышал Жака де Моле, но являлось ли их желание мышлением? Не было ли это чистым воображением без всякого мышления?
Модальность содержит в себе чувственный момент, а, если с Канта перейти на терминологию Ницше, – волевой. По нашей терминологии, это – дискурс и целеполагание, по терминологии Аристотеля. Если модальность включить в категории, она отменяет чистую материи, как единственное основание для них, – а путаницы и так хватает. Форма языка включает оба основания мышления – рассудочное и чувственное, – но категории могут иметь только одно, если это категории разума.
Внутреннее чувство сформировано логосом, искажает картину мира, которую разум схватывает по своим законам… По Гегелю, понятие разложимо на моменты. Достаточно выделить два момента в предмете, потом разложить каждый момент ещё на два момента… мышление ограничено только нашей целью, но Гегель объединяет диалектический метод с целеполаганием не вполне последовательно. Для него было важно утверждение, что разум обладает истиной: если для разума возможна истина, значит, возможна и цель, сознание может навязывать себя действительности.
Ницше вообще увидел «волю к власти» в сцеплении атомов в молекулах, но Вайнберг – член американского философского общества и нобелевский лауреат по физике мирозданию в целях и, следовательно, в воле к власти. Цель может быть выделена, только начиная с уровня биологии. «Сердце толкает кровь, лёгкие обогащают её кислородом, у печени – своя цель, – но уже на уровне химии, частным случаем которой является биология, такая цель не может быть определена, в то же время химия – частный случай физики – неядерное взаимодействие вещества. А есть ещё ядерные взаимодействия». Гегель тоже пишет, что природе неорганического не присуща цель: «Телеологическое соотношение есть мысль, целиком освобождённая от необходимости природы, мысль, которая покидает её и для себя движется за её пределами».
Между знанием и миром существует разрыв. Знание не состоит из того же материала, что и мир, и рассчитывать на логическую истину разума при таком условии не приходится, но, по Гегелю, истина – в понятиях. Откуда взялись эти понятия, если мы имеем достаточное основание исключить меру из категорий?
В сериале про советского разведчика Штирлица оберштурмбанфюрер Холтоф восхищается логикой Штирлица, а основанием этой логики было: «фюрер сказал», – цитаты Мао тоже не пустяки… «Воля к власти» требует знания истины, иначе субъекты по своей волей могут забрести в какой-то тупик. Конечно, для бенефициаров системы практической истиной может быть их собственная воля, но такая истина не допускает контингентных отношений (возможности быть иным). Эта возможность не предполагает возможность быть любым; но контингентность, способная быть одним из определений истины, исключается тоталитарными системами. Социальная реальность может иметь глобальный масштаб, изменяться и переходить в свою противоположность, и всё бы это выглядело объективностью, если бы не «второй мир», не «догоняющее развитие». Идеология или вождь – это идол. Идол есть и в первом мире – деньги, – но в СССР и в Китае этого идола тоже никто не отменял. Деньги в качестве основания для функционирования общества сохранились. На идола работали скопом, а за деньги каждый на себя. Отменить дискретность мира божественные личности не могли, но за деньги нельзя было купить карьер или завод. В итоге: второй мир. Это – тоже практическая истина.
По Гегелю, разум с одной стороны ограничен чистыми понятиями, которые не разложимы на моменты, с другой – единичностью мнений и заверений, не имеющих своей истины, внутреннее чувство Гегель вообще объявил пустым понятием. Таким термином, как внутреннее чувство, он не пользуется: «чувства нужны только для того, чтобы предмет был дан». Пространство и время не содержат собственного инобытия, не могут быть понятием, по Гегелю, они – «тождество и опять тождество». С ними Гегель соотносит «я» – «непрерывность в бесконечном становлении иным, простое соотношение с собой» – и тоже тождество. Гегель следует за Кантом в определении «я», а Кант в определении «я» прямо совпал с вещь в себе: «Сознание самого себя при внутреннем восприятии согласно определениям нашего состояния только эмпирично, всегда изменчиво; в этом потоке внутренних явлений не может быть никакого устойчивого или сохраняющегося «я». То, что должно представляться необходимо, как тождественное, нельзя мыслить, как таковое посредством эмпирических данных. Должно существовать условие, которое предшествует всякому опыту и делает возможным сам опыт… Единство сознания было бы невозможно, если бы познавая многообразное, душа не могла сознавать тождество функций, посредством которых она синтетически связывает многообразное в одном знании. Душа не могла бы мыслить тождества самой себя в многообразии своих представлений и притом a priori, если бы не имела перед глазами тождества своей деятельности, которая подчиняет весь эмпирический синтез схватывания трансцендентальному единству… Явления суть единственные предметы, которые даны нам, но явления суть не вещи в себе, а только представления, в свою очередь имеющие свой предмет. Он уже не может быть нами созерцаем, и поэтому мы будем называть его неэмпирическим, т.е. трансцендентальным, предметом=х. Чистое понятие об этом трансцендентальном предмете не может содержать в себе никакого определённого созерцания и, следовательно, может касаться лишь того единства, которое должно быть в многообразном содержании знания. Это единство должно рассматриваться как a priori необходимое. Объективная реальность нашего эмпирического знания основывается на трансцендентальном законе, по которому все явления должны подчиняться правилам синтетического единства предметов… Единство апперцепции («я») необходимо должно быть простым… Если я хочу узнать, какими свойствами обладает мыслящее существо, я должен обратиться к опыту, но таким путём я никогда не прихожу к систематическому единству всех явлений внутреннего чувства. Поэтому вместо эмпирического понятия, которое не может повести нас далеко, разум берёт понятие эмпирического единства всякого мышления и, мысля это единство безусловным и первоначальным, создаёт из него понятие разума (идею) о простой субстанции».
По Гегелю, Кант объективировал «я», хотя сам Гегель сделал то же самое, когда соотнёс «я» с пространством и временем, как тождествами, лишёнными моментов. Кант пытался выдвинуть понятие разума (идею) о простой субстанции, но, по Гегелю, «я» не является понятием, если не разложим на моменты: если «я» не является понятием, то высшая сущность – разум. Потом Гегель наречёт «я» понятием, подразумевая то, что Кант говорит о внутреннем чувстве.
В итоге у Гегеля получился некий «я», совпадающий в своих свойствах с пространством и временем и не являющийся понятием, и «я» – понятие. У Канта тоже возникла такая картина: объективный «я» (трансцендентальный) и cogito.
Если поставить высказывания Гегеля о «я» рядом, то в них возникает контактное противоречие… Cogito Канта тоже – не простое понятие, не смотря на выдвинутое понятие о простой субстанции. Оба великих философа совпали в показаниях о «я», тем не менее, принципиально расходятся в вопросе об истине: «Вещи в себе», по Канту, не познаваемы, только явления познаваемы. По Гегелю, «в вещах нет причины быть непознаваемыми, разум обладает истиной». Встать на сторону Гегеля можно, но лучше сделать выбор в пользу Канта. Без личной меры в этом выборе не обойтись, но, по нашему мнению, между целеполаганием и его результатом возникает объективный зазор, с запозданием свидетельствуя о том, что разум принимал ошибочное за истинное по своей воле. Логика нарушается, потому что логос не совпадает с ней, но имеет решающее значение в выборе целей. Независимо от того, что вкладывал Кант в понятие вещь в себе, это наглядно свидетельствует, что мир обладает непознаваемостью (трансцендентностью).
Мир, «я» и Бог, как прямые линии, прокладывают направления для практики. Прямая линия – не форма и сущность бесконечных идей. Стройная формальная логика тоже совпадает с прямой линией и увлекает мышление к логической истине. Она представляется неким отсутствием, воображением…
Самый знаменитый нулевой пациент в истории медицины был выявлен на территории большого Лондона, благодаря прямой линии… Мэри сама не болела тифом, имела нормальные анализы, но болезнь вспыхивала в тех семьях, где она работала поварихой, – и опять вспыхнула. Мэри запретили устраиваться на работу поварихой, она нарушила запрет: болезнь опять вспыхнула. Мэри была посажена в пожизненный карантин, а посмертное вскрытие обнаружило тифозные палочки у неё в селезёнке.
Люди доказывают прямую линию, при этом стремятся подчеркнуть, что оппонент, проводящий свою прямую линию в рассуждениях, не мыслит здраво. Здравый смысл – это тоже прямая линия, и, если она вытягивается с соблюдением логических законов – хорошо, а, ели они не соблюдаются, прямая линия всё равно вытягивается… Всякая убеждённость похожа на прямую линию. Прямая линия – олицетворение направления прогресса, длины, ширины, высоты, тенденции… особенно, к упрощению. В то же время пустое пространство искривлено, не состоит из прямых линий длины, ширины и высоты, как это представляется нашему внутреннему чувству. Время течёт с разной скоростью в зависимости от движения объекта и тоже не является простым представлением, как прямая линия. Прямую линию отменяет сингулярность, но прямую линию можно соотнести с «я», как простым смыслом нашей души.
Прямая линия не встречается в природе, как и колесо, но устойчиво повторяющаяся связи природы похожи на прямую линию. Определение гравитации, сделанное Ньютоном, выглядит, как представление о прямой линии: «Каждая частица во Вселенной притягивает любую другую частицу с силой пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояний между ними… Эта сила происходит от некоторой причины, которая проникает до центра Солнца и планет без уменьшения своей способности». Прямая линия, существующая только в сознании, описывает наиболее общий закон природы. Одна и та же, она равна себе, условие отражения внешнего внутренним. При зеркальном отражении прямая линия тоже остаётся прямой и неотличимой от себя. Она – как сама неизменность. Тёмный предшественник шлёт знак прямыми соответствиями в словах. В этой буквальности есть что-то мистическое: начало современной науки положено Исааком Ньютоном – буквально «новым тоном». В слове Логос и Голос, будто, зеркально переставлены звуки… Это тоже какая-то прямая линия.
Описывая рефлексию, Гегель описывает зеркальные отражения прямой линии, всегда идущей прямо, потом прямо назад: А=А. Что может быть проще прямой линии и соотношения с самим собой? Наши мнения, ещё наиболее прочные, прокладывают себе дорогу тоже, как прямая линия. Она устойчиво тянется в наших мнениях, не смотря на противоположность впечатлений от жизни. Прямой линии подчиняются чувства. Мы выбираем, что замечать, а что не замечать. «Должно быть» дискурса – это тоже прямая линия. Смыслом бесконечных идей оказывается что-то однообразное, как прямая линия. Однообразие преследует и регулярные понятия – устойчивый, общезначимый смысл сознания. Подавленная координата, подчиняясь стандартам ведущей координаты, тоже вытягивается вместе с ней в некую прямую линию… Прямая линия удобна для описания устойчивого наличия – тождества. Логика наших поступков движется по прямой линии в соответствии с прямотой логоса. В слове «порядок» – что-то прямое – «ряд». Слово «стиль» переводится, как палочка: – тоже что-то прямое.
Выдающиеся личности оказывали воздействие на окружающих, прямо двигаясь к своей цели. У сумасшедших в сознании «прямая линия», которая не склоняется: нет – прямой линии, прямой линией, – только прямая линия. Она проводится чувственно и рассудочно и у всех прочих людей, действует, как аргумент и как контраргумент. Разум за пределами опыта, который Кант обнаружил, как изъян, – тоже прямая линия. Прямая линия – модальность нашего мышления, а модальность – это мера, которая включает в себя, как объективный, так и субъективный момент. Возможно, они – тождество и позволяют понимать мир, но какое-то различие между ними тоже есть. Это различие – перерыв тождества и разливания какого-то простого смысла, это вызов, который мир бросает простому смыслу, но с этим вызовом простой смысл справляется, благодаря различению.
Субъективный момент мышления – прямая линия. Вернее, это часть прямой линии – её отрезок. Не смотря на то, что обобщения в конце концов игнорируют опыт и оказываются в пустоте, преобразующая сила регулярных идей очевидна. Если какая-то девушка в узкой юбке и на высоких каблуках поймёт пользу бега и будет систематически применять его на практике, то сильно изменится. Совершая каждый день пробежки, она престанет ходить на высоких каблуках, будет только бежать по своим делам. Вместе с высокими каблуками исчезнет узкая юбка, сменится мокрой майкой. Длинные волосы, возможно, тоже исчезнут. Идеи жертвенны – и жертвуют наличным бытием во имя возможного бытия.
Окружающим уже не хватает девушки в узкой юбке и на высоких каблуках, но их отношение к себе она считает прежним. Внутреннее чувство девушки отстало… Потом ей, возможно, не хватит эмоций бегать каждый день, жизнь девушки опять изменится. Какое-то другое регулярное понятие поселится в её мыслях; например, она станет матерью и будет заниматься уходом за ребёнком, но утверждать, что в беге не было никакой истины, тоже нельзя. Девушка ушла от этой практики, но, возможно, сохранила здоровье, а вместе с ним и красоту. Исчезновение красоты тоже можно заметить не сразу. По инерции внутреннее чувство видит в зеркале какое-то соответствие с прошлым. Девушка будет считать себя красавицей, свой внешний вид себе описывать в соответствии с прежними установками внутреннего чувства. Эта установка игнорирует фактическое восприятие, является относительной непрерывностью, но это – cogito, внутреннее чувство, а не непрерывной «я». Такие установки проверяются на практике.
Бог, как предельное выражение всех идей, существует, игнорируя опыт. Из-за этого в бесконечной прямой линии нашего разума наблюдается разрыв. Опыт всегда отрезок, всегда ограничен. Если бесконечная линия прервана, разум должен отказаться от своего основания – от бесконечных идей, – но не может этого сделать. Было бы непротиворечиво, если бы Бог был доступен какому-то опыту, иначе прямая линия прекращает быть направлением для накопления разумом опыта, обобщения чувств и установок. Цель движения разума по ней становится недостижимой. Разум должен отыскать, как идея Бога, обобщающая прочие бесконечные идеи и лежащая в их основе, доступна опыту, либо отказаться от своего основания и возможности достижения истины.
Понятия, которые не поддаются проверке повторением эксперимента, хотя бы, ежедневным подходом к зеркалу, полны домыслов, свидетельствуя только о глупости имеющего их Нарцисса. В дальнейшем в понятие Нарцисса мы будем включать и совесть, чтобы не множить сущности. Очевидно, что мышление стремится по бесконечному пути обобщения: – берёза, дерево, растение… но последнее обобщение (Бог) не встречается в опыте; без опыта не может быть знания. Наши чувства могут расширяться приборами, тогда опыт возможен, но смогут ли и приборы дотянуться до Бога?
Предмет порождает понятие, понятие тоже порождает предмет…
Девушка увидела выносливых, красивых бегунов, сама стала бегать, потом в её воображении был воспринят противоположный момент. Физические нагрузки приводят к слабости, усталости и боли, – она их прервала, но, если бы продолжала бегать, превратив регулярную идею в бесконечную, например, не закончила бы аспирантуру, не стала бы материю, или кандидатом наук. Если систематическое становится бесконечным, приобретает ли оно божественные свойства? Бог собирает все бесконечные линии в себя, но бесконечное упорство в какой-то одной – путь к Богу. Он – чистое понятие, чистый предмет, в котором за неимением практики нельзя выделить моментов, но бесконечная регулярность, возможно, тоже – не понятие, а чистое чувство. Какой-то чистый предмет может быть дан, но чем будет прямая линия, как итог всех бесконечностей терзаний?
Заключение.
«Бесконечность – это абсолютный непокой чистого самодвижения». (Гегель). Логос произвольно обращается с мерой, сам является мерой: мелкое делает крупным, а крупное – мелким, но не может ничего поделать с бесконечной, прямой линией, только разбить её на отрезки. В итоге, она – aliquid.
Глава 4 Случайная координата
Читатель! «Вдруг» знакомы тебе.
Почему же, как страус, ты прячешь
голову в перья при приближении рокового
и неотвратимого «вдруг»?
А. Белый. «Петербург».
Самолюбование – определение Нарцисса, но как может прозреть тупая сущность, замкнутая на себя? Какие у Нарцисса шансы – перестать быть болваном? Поставить цель – стать умным с понедельника – не выход, а заурядная глупость. При наличии внутренней слепоты самостоятельной возможности прозреть у Нарцисса – нет… Жизнь предлагает примеры только случайных просветлений. Развитие координаты совести подвержено именно случайности, хоть и не отменимо. Оно является некой закономерностью, но что-то случайно даётся, что-то также случайно отнимается.
Всё по большому счёту случайность. Сперматозоид, оплодотворивший яйцеклетку, сделал это случайно. Масса претендентов была кроме него… Случайность с самого начала фабрикует нашу неповторимость. Мы вообще подразумевали что-то другое, когда совершали наши поступки. Они стали для нас тем, чем стали, случайно. Супруги друг у друга могли быть другими. Мы искали счастье, но нашли его случайно. Разум был бы не в состоянии сфабриковать нам счастье. Оно теряется тоже случайно…
Случайны профессии, знания, навыки: Все мы учились понемногу чему-нибудь да как-нибудь.
Я случайно заметил внутреннюю сложность одной особы. Мы стояли на остановке, я что-то говорил: особа реагировала… В интонации её голоса, выражении глаз были знаки: так же выглядели мои собственные сомнения в «другом». Особа обращала на меня многочлен своих безжалостных и тупых предвзятостей, очень запутано мыслила. Я думал, что один так умею…
Мне хотелось забыть, думать, что показалось, но случайно я не прошёл мимо этого факта, повторял себе, как заклинание, что заметил мыслительный сложный процесс. Скоро второй человек попал в поле моего зрения. Это был вообще заскорузлый работяга, который едва держался на периферии моего внимания. Он позабавил меня тем, что отвёл мне место в своих мыслях в соответствии с той нехитрой функцией, которой я был для него исчерпан… Сразу два человека восприняли меня, как одномерность: «Слепые, они что ли?! Это моя прерогатива – считать всех одномерностями!». Я не знал, что делать с этой информацией, но боролся против беспамятства. Я не забывал несколько дней, не позволял себе её перетолковать, всё равно моя картина мира её отторгала… В конце концов, прошёл, будто, неощутимый ветерок, слабый электрический ток в сознании. Я смог понять, что они такие же сложные. Никакие не умные, просто сложные, как и я».
Я стал присматриваться к другим людям, нередко прорываясь сквозь их эстетически неприемлемое для меня поведение, отказал себе в праве считать его примитивным, – и сложными оказались все. Среди валившей навстречу толпы по улице не было простых. Мне удалось большим скачком преодолеть в себе врождённую тупость.
Я сделал это и теперь могу отменить все преступления и подвиги своей совести, совершив противоположные поступки, но не могу воспринимать больше других людей одномерностями. Эту возможность я потерял навсегда, произошла «химическая реакция». Я мог бы вычеркнуть информацию или перетолковать, но случайно не сделал этого… Марсель Пруст тоже описывает ненавязчивую случайность судьбы Свана. Придя к Вердюренам, он встретил сонату Вентейля, которая подтолкнула его к Одетте. Любовь лишила его свободы духа, заставила жениться на даме полусвета, но перед этим прозвучало предупреждение:
– Ах, да отстань ты от него, он пришёл к нам не для того, чтобы его мучили! – воскликнула г-жа Вердюрен. – Я не хочу, чтобы его мучили!
– Откуда ты взяла, что я собираюсь его мучить? Господин Сван, может быть, не знает сонаты фа диез, которую мы открыли.
Слова г-жи Вердюрен, конечно, символическое предупреждение… Сван его не услышал. Я бы тоже не услышал. Но возникает впечатление, что мир управляет нами с нашего же согласия: не сам же Сван так «с собой управился».
Этот милый, умнейший человек мог делать визиты в дом, где работала какая-нибудь приглянувшаяся ему кухарка, потом исчезал, не предупредив хозяев, и что-то оценивало его по шкале, которая всем известна. Поступки Свана не безразличны миру, его фортуна в любви тождествена Сансаре. Мы принуждены думать, что Сван стяжал свою судьбу. Тем не менее, было джентльменское предупреждение. Свану было проявлено сочувствие, и то, что выставило ему моральные требования, само подчиняется им. В итоге Сван шагнул на ступень другого возраста, но никакой трагедии нет. Жизнь продолжается: у них с Одеттой прекрасный ребёнок – Жильберта. Трагедии нет, но плоскость, так беспощадно знающая Свана, находится где-то рядом…
В фильме «Непрощённый» случайности громоздятся друг на друга… Клиенты изрезали лицо проститутке, шериф даже не выпорол их, взял штраф лошадьми в пользу хозяина заведения. Теперь одна из его работниц может только мыть посуду. Оскорблённые женщины обратились к обществу.
Знаменитый стрелок приехал за их тысячей долларов, даже привёз с собой биографа… Он – знаменитость, но шериф выгнал знаменитость из города и оставил биографа себе. Он и сам немножечко Нарцисс. Наличие биографа – свидетельство, что это подлинная история… Случайность посылает «вестника» настоящему мстителю… проявила сочувствие и к шерифу, но тот подарок не принял. Драматические крайности громоздятся друг на друга. После убийства одного из клиентов напарник покинул мстителя, почувствовав угрызения совести, – и сам убит. Судьба всего предприятия висит на волоске… Тем не менее, логика воздаяния безупречна. За изрезанное лицо девушки будет десяток трупов: среди них шериф, все помощники шерифа, клиенты и хозяин борделя. Кажется, что в финале с жителями городка говорит трансцендентальная сущность, сидящая на бледном коне, погружая лицо во мрак ночи: «Не обижайте ваших шлюх, или я вернусь и убью вас всех».
Случайность – конёк и Квентина Тарантино… Кажется, что бандиты просто болтают. Один говорит, что хочет служить Богу, второй не верит и относится скептически: напарник не похож на проповедника. В перерыве беседы они убивают трёх человек. В них самих в упор стреляют пять раз: ни одной царапины. Гангстер, который собирался служить Богу, видит в этом в знак. Он заявляет, что больше не будет убивать и исполнит обещание проповедовать. Второй гангстер остаётся при своём мнении: «Пять промахов подряд – это просто слепая случайность. Не стоит ради этого менять свою жизнь…». Первый гангстер отпустил в кафе тех, кого должен был убить, слово сдержал, а скептика на следующий день убивает «слепая случайность». Он застрелен из собственного ружья, в единственно возможный момент. Боксёр даже не хотел: взял ружьё, потому что его заметил; выстрелил, потому что в самый напряжённый момент хлебные тосты хлопнули… а поговорить с гангстером они не могли: за день до этого скептик был на взводе – дважды угроза жизни, даже трижды, облажался с негром в машине – и обозвал Буча боксёрской грушей, потом скептик купил средство, чтобы расслабиться… жену босса удалось откачать. Предупреждение случайности, что он висит на волоске, было. У Буча тоже был выбор: он мог сразу уйти, но остался, чтобы подогреть тосты, не успел позавтракать… После этого ему весь день везло, только щекотало нервы.
Случайность предоставляет возможность выбирать не только в кино. Товарищ Сталин тоже мог выбирать, когда отвечал на предложение втянуть в орбиту Советского Союза арабский Восток ещё до обнаружения там нефти: «Нам нечего искать призрак коммунизма в песках Саудовской Аравии».
Эта шутка вождя предопределила судьбу коммунизма… Случайность предопределила и судьбу Евразии за века до этого: в «Чёрной легенде» Л. Н. Гумилёв обращает внимание на её нравственный характер в возмездии тамплиерам. В итоге, магистр Жак де Моле проклял французских королей на триста лет вперёд… Эмоции у него оказались в состоянии творить на костре. Сартр видел в случайности причину всякой обыденности и в «Тошноте» пишет о существовании, как о случайности.
Моё представление о себе, как о Гадком Утёнке, и представление Любки обо мне, как о симпатичном мальчике, обрели устойчивость, соединившись. Я тоже случайно стал себе представляться с «чужих слов». «Мы – люди с чужих слов», – говорит Кришнамурти. Картина «со слов» – это опосредованное восприятие. В данном случае его опосредованность только и является достоверностью: мало, кто убеждался собственными глазами, что существует Берингов пролив.
Слова о существовании Берингова пролива можно, хотя бы, проверить, а вот с теорией эволюции или историей дело обстоит гораздо хуже. Мы должны принимать только уверения о них без референта. Что было миллиард лет тому назад или тысячу лет тому назад? И как быть, если хочется знать, а не верить?
Чужие толкования вызывают чувства. «В нашем социальном мире система внешних окон постепенно сменяется закрытой комнатой со столом для информации: мы больше читаем о мире, чем видим его». (Делёз). Рассудок незаметно подменяется чувствами, вернее, равновесие между рассудком и чувствами незаметно нарушается «с чужих слов». Они всё объясняют, упорядочивают мир, но и в заблуждение тоже вводят.
Если узнать основания, по которым нам предлагается представлять себе татаро-монгольское иго, можно сильно удивиться. Этот общезначимый смысл окажется галлюцинацией, идеологией Романовых. Согласно их видению истории, Россия до них выплачивала дань по всему периметру границ, а они навели в этом фундаментальном вопросе порядок. В то же время невозможно отделаться от впечатления, что теория относительности нафантазирована: «Копьё пролетает со скоростью света между двумя дверями гаража, которые закрываются тоже со скоростью света». Тем не менее, теория относительности принесла практические результаты в виде телевизора, например. Видимо, есть разница между татаро-монгольским игом и теорией относительности, как знаниями. Видимо, галлюцинировать «с чужих слов» и фантазировать – две большие разницы. Делёз даже ввёл представление об идеальной игре воображения, разделяя общезначимый смысл и фантазии. Это может показаться странным, что летающие в облаках фантазии проникнуты логикой, а общезначимый смысл – логосом; но условимся, что галлюцинации – это игра мысли по неким правилам, а фантазии – идеальная игра воображения. Фантазии индивидуальны, но логичны, а общезначимый смысл – более или менее одинаков для всех, но это – логос. В связке со здравым смыслом он гласит о каких-то банальностях: «Лошадь кушает овёс». Чтобы возникла сложная жизни, по мнению наших представлений, не логичных, но логосных, нужно много времени – миллиард лет. Кажется, что время в миллиард чем-то ограничено… На самом деле, это безразмерное время, которое не имеет смысла даже для самой эволюционной теории. В согласии с ней эволюция ведёт к биологической специализации, а специализация к смерти: всё возникшее за миллиард лет многократно обретёт специализацию и погибнет в изменившихся условиях. Миллиард лет ничем не обоснован, кроме общезначимого смысла. Нет в логике такого закона, который бы требовал миллиарда лет. Мы просто не сторонники веры в Бога. Миллиард лет – и всё существует без Бога. Кажется, что эволюция – хорошая альтернатива сотворению мира. Мы верим в общезначимый смысл, чувствуем от этого удовлетворение. В этот момент наше сознание именно чувствует, галлюцинирует, повторяя себе некий общезначимый смысл, а не мыслит. Основоположник эволюционной теории был старшиной церковного хора. Создавая теорию видов, Дарвин хотел освободить Бога от заботы о мелочах, но какое теперь дело до того, что он хотел? Случай расставил всё по-своему. В итоге теория видов заменила Бога. Теперь эволюционная теория ссылается на генетику, доходит до таких подробностей, как неандертальские рыжие волосы, доставшиеся северным европейцам. Среди них много рыжих. Такие детали просто завораживают, но чем больше мы узнаём разного, тем больше возникает и нестыковок в разуме и в чувстве… При запуске первого спускаемого аппарата на Луну было опасение, что он утонет в слое космической пыли в десяток метров толщиной. Такой слой должен был на Луну нападать за пять миллиардов лет, ведь она возникла вместе с Землёй, но пыли на Луне оказалось десять сантиметров. Как раз столько могло нападать за семь тысяч библейских лет. Смысл, который приходит первым, возникает, будто, из ущерба самому себе: зерно не прорастёт, если не погибнет. Почему-то, стало нельзя отказаться от устаревшей идеи сотворения мира.
Иногда во взглядах эволюционистов проскальзывают и забавные нотки. Ричард Ферле, написавший книгу «Эректус бродит между нами», в том числе упомянувший рыжих жителей севера Европы, восклицает: «Жизнь, подобно другим актам творения!», – это – оговорочка по Фрейду. Как свидетель, о рыжих неандертальцах; высказывалась и Елена Блаватская: «И увидели нежные Лхе, что должны воплотиться в огромные тела, покрытые рыжей шерстью, и в ужасе закричали: «Это – карма!». Что случилось, – что через какие-то сорок тысяч лет мы себе уже нравимся? «Мы с отцом прицепили к полотну медали свиней, растянули поперёк дороги и сфотографировались. Свиньям, которые заработали эти медали, было всё равно, а нам с отцом нет». (Дейл Карнеги).
Эволюционная теория вообще путаная вещь: для эволюции мы никакие не любимчики. У всех видов шерсть и клыки в интересах выживания, а у нас миллиард лет впустую. Кстати, зачем в Африке обезьянам шерсть? Нет, я не грущу по шерсти, просто истину ищу. Куда подевалась моя биологическая специализация? Пустяковое время в какие-то сорок тысяч лет, – и ни клыков, ни шерсти, почему-то, когти стали ногтями. В драках даже друг с другом когти совсем бы не помешали. Пусть бы шерсть сошла. Я согласен: паразитов меньше будет, но зачем волосы на голове отрастают, как ни у кого другого? Нет, эволюция не считается с нами, как ласковая случайность. И что её ради радеть, если в итоге случайности мы устроились на планете лучше всех?
Астральный майор В. Аверьянов освещает вопрос возникновения человека на Земле, не вступая в противоречие с моей фантазией. Правда, он переносит проблему возникновения жизни в космос: «Ну, и ладно!». Может, гуманоиды знают, откуда пошла есть русская земля? В. Аверьянов пишет о прививке внеземного разума на земную биологическую основу (миф о кентаврах и козлоногих людях). Такую прививку можно рассматривать, как форменное творение, при этом мы укладываемся в сроки геологической эволюции, в сроки биологической эволюции и в сроки, за которые лунная пыль нападала… Эволюционисты сами открывают факты, обосновывающие какое-то творение, профессор Савельев, например, считает, что человеческие расы сложились не позже пяти тысяч лет назад. Не позже, значит, в библейские времена. В пользу творения говорят и слова С. Савельева о том, что геном «не кодирует структур мозга». Для этого геном слишком прост, – а структуры мозга разнообразны и по количеству так велики, что вообще, неизвестно, откуда они взялись. Более того, наша иммунная система рассматривает мозг, как инородное тело. Кровяные тельца борются с клетками мозга и убивают их, если доберутся. Питательные вещества из крови в мозг поступают через слой специальных клеток, который защищает нервы от поражения иммунной системой, – гематоэнцефалический барьер. Интересно, как именно миллиард лет эволюции обосновывает совместное пребывание крови и нервных клеток в одном организме?
Основные биологической мотивации человеческого мозга совпадают с мотивациями животных: пропитание, размножение и доминантность. Подчёркивая сходные доминанты, профессор Савельев остроумно объясняет на их основе поведение человека в обществе и находит много общего с бабуинами. Я тоже не нахожу никакой разницы в сфере эмоций между человеком и животными, но всё равно возникает вопрос об обществе. Доминанты способны обосновать стадо, как они обосновывают общество? Люди ведут себя, как бабуины, но вместо стада – общество. Язык общения есть и в стаде. Там главный бабуин – основополагающий момент. Стадо вписано в него, покоится на бабуине, главный бабуин обосновывает собой стадо, а вот в общество, наоборот, «главный бабуин» аккуратно вписан, его доминанты ненавязчиво контролируются вместе с «бабуином» в обществе. Что за институция такая, не известная нам? Это – не институт брака и не институт государства.
В современном обществе легко переедать, и мотивация питания требует контроля. Лежащая в основе общества, она бы сама всё контролировала. В контроле нуждаются и мотивации размножения, и мотивация доминантности, и контроль в обществе всегда ненавязчивый. Основные животные мотивации не могут ликвидировать общество, только понижать благоустройство для самих же «бабуинов». Например, для доминирования доступней всего свои дети, но, преследуя вниманием всякий поступок ребёнка, «бабуин» только навредит своей мотивации доминирования. Внимание детей организовано субъективно. Если для родителя порядок в вещах, сложенных аккуратно, то для ребёнка – в разбросанных вещах, они так функционируют. Сложенные в порядке, бесполезны и никак ребёнка не развивают. Значит, порядок родителя тормозит развитие ребёнка. В результате доминирования над ним, как бабуин будет выживать в обществе, если «грохнет» свой актив? Жизнь в обществе требует различения своих мнений и истины. Такие эфемерности в стаде невозможны.
«Незапамятные времена» – уловка и для историков. По хронологии Фоменко и Носовского, тысяча лет истории приписана. Конечно, пустяки по сравнению с теорией эволюции. Сергей Фоменко – математик. Он говорит, что хронология – дело математиков, ещё он говорит, что история более сложная наука, чем математика: «Легко себе представить международную конференцию математиков и трудно такую же конференцию историков».
Предмет изучения истории, действительно, двоится. В виде прошлых событий исторические источники нам предлагают идеологическую трактовку этих событий. Самый свежий пример, что история именно так и пишется, – история КПСС. Трактовка древней истории тянется из незапамятных времён, идеологические установки которых темны, на языке эволюционной теории такая «история» превратилась в «специализацию», ведёт к вымиранию своих носителей… Конечно, существуют у истории методы, но двойственность исторического предания – первое, что приходит на ум… Поползновению истории быть идеологией можно привести свежий пример. Профессор В. Пыжиков поднял украинский вопрос, это – идеологическая конъюнктура, в настоящий момент; взгляды профессора могут быть глубоко обоснованы критическим изучением разнообразных исторических источников, – но конъюнктурный момент только подчёркивает двойственность исторических исследований.
Глеб Носовский говорил с теми людьми, которые в тридцатые годы участвовали в переписи населения СССР. Они рассказали ему, что граждане СССР указывали в качестве своих национальностей: чудь, кривичи, берендеи. На удивление переписчиков приводили слова на этих языках. Не случайно в царской России указывалось только вероисповедание в переписях населения, творился русский народ в письменном государевом предании… В детстве, когда я, по мнению бабки, баловался, она кричала: «Чалдон!», – а пару раз обозвала «берендеем». По истории, эти берендеи ещё до крещения Руси вымерли. Через тысячу лет после исчезновения народа никакое предание о нём не живёт. Моя неграмотная бабка могла пользоваться только устным преданием. Сейчас можно встретить утверждение, что хетты, жившие до новой эры, были праславянами, но это – письменное предание. Я прочитал об этом, а не услышал.
Алексей Кунгуров сообщает о делении христиан на православных, правоверных и каких-то крестофериан. Он указывает на православные кресты церквей с маленьким исламским полумесяцем. Может, существовала какая-то форма экуменизма двух авраамических религий? История об этом умалчивает, но мусульмане в России жили везде: и там орда, и здесь орда, Ордынцев поощряли креститься, даже давали дворянство и принимали на «государеву службу», но ведь не все крестились, и мечети стояли не везде, а с не крещёными нужно было считаться. Мы не замечаем мусульманский полумесяц на кресте, а они видели свой символ и могли молиться в церкви, могли надоумить и христиан на полу распластываться. Те думали, что это религиозное рвение. Можно поразмышлять и над вопросом, как давно существует древний источник карты Пири-Рейса? Это мог быть только свиток из Александрийской библиотеки: на карте не обозначен пролив Дрейка шириной в тысячу километров, зато нанесена береговая линия Антарктиды, не покрытая льдом. Согласно науке, льдам Антарктиды сотни миллионов лет, но так долго не мог существовать даже древний источник карты… Зато в Библии сказано, что после потопа земля была разделена в дни Фалека. Карта Пири-Рейса без пролива Дрейка и без льдов Антарктиды как-то согласуется с библейской историей. Весь «миллиард» при желании можно сжать до семи тысяч лет.
Логическая фантазия вполне применима и к догматическим вопросам веры. Опровергая утверждение, что ислам последнее откровение Бога, А. Вассерман приводит в качестве аргумента клерикальное представление: «Бесконечный Бог может послать бесконечное количество учений бесконечному количеству учеников».
Мы представляем сознание внутренним свойством и приписываем то же самое божественному сознанию. Органы чувств находятся внутри; значит, и сознание находится внутри. Всё очевидно для общезначимого смысла, – но из внимания вытесняется, что содержанием сознания является что-то внешнее. Обращаясь к догматическим вопросам, мы не прекращаем быть атеистами. Только откладываем в сторону общезначимый атеистический смысл… А. Вассерман – тоже атеист – и пишет о возможностях Бога с сомнением, но мы усомниться в другом. Как может «бесконечное» быть внутри? Формы созерцания – внутри-снаружи – путают некий простой смысл, но сознание Бога никак не может помещаться внутри, в том числе, и Бога. Как тогда оно существует? Бог сотворил сознание бесконечным, в том числе, у человека: «по образу и подобию своему». Бесконечное сознание может существовать в конечном теле, оказывается… Тело самого Бога представляет загадку, но для нашего бесконечного сознания, возможно, требуется бесконечное количество тел. Всё по какому-то лекалу, вывернутому наизнанку: у тела бесконечное множество клеток, у сознания бесконечное множество тел. Масштаб – форма созерцания. Я – крещённый, православный атеист – по поводу поднятого Вассерманом вопроса, думаю, что Всемогущий Бог посылает бесконечное количество учений бесконечному количеству учеников и делает это «здесь и сейчас», но «ученики» не замечают «учений» ни внутри, ни снаружи…
Утверждение, что Бога – нет, научно, потому что опровержимо. Вы опровергнете, если предъявите Бога. Вот фарфоровый чайник на орбите Юпитера никто не может опровергнуть, он маленький, его не видно, мы его никогда не найдём, но он там есть! Рассел запустил на орбиту Юпитера совершенно неопровержимый чайник. Утверждение, что Бог есть, тоже неопровержимо, всегда можно сослаться, что Он находится за пределами известного нам пространства, если всё пространство изучено, тогда можно сказать, что Он был, когда творил, а сейчас его нет. Короче, с этим ничего нельзя поделать… Бог лишён, тем не менее, достоверности, но если я скажу, что случайность есть, я смогу её предъявить?
Анатолий Вассерман считает, что Бога нет, если есть природа, и ссылается на Курта Гёделя, который доказал две теоремы, а Вассерман добавил к ним собственное следствие: «Завершённая система аксиом является противоречивой... Бог, как абсолютная причина всего, завершает систему аксиом. Значит, мы должны прийти к выводу, что в природе возможны противоречия, а так как противоречий нет, то и Бога нет». Научный метод так и соблазняет себя опровергнуть. Чего не хватишься, ничего нет! Мы, конечно, не можем предъявить Бога, но в данном случае это и не нужно. В Канаде в 19 веке имела место «длинная ночь». Это явление попало в канадские газеты: «В течение всего дня горели в небе звезды, в конюшнях ржали лошади». Более того, это было двойное противоречие в природе: ночь не кончилась только на ограниченной территории земного шара. В остальных частях света всё было нормально, никто ничего не заметил. А ночь не кончилась! Газеты врать не станут, это – не Библия: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». (Иисус Навин).
Разумеется, я узнал о «длинной ночи» не из канадских газет, а из современной книжки, там было ещё про зеленых человечков. В какой-то германский город (по другой версии в Англии) пришли мальчик и девочка зеленого цвета, на расспросы, кто они такие, дети отвечали, что живут на другом берегу широкой реки и называли реку, но такую реку никто не знал. Дети сказали, что дома всегда сумерки. Они только видят солнечный мир… Через некоторое время кожа у них побелела. Мальчик вскоре умер, а девочка жила долго и оставила потомство… Была в книжке и совсем достоверная история. Опять в каком-то городе в Германии появился мальчик (Каспар). Он имел с собой рекомендательное письмо, в котором сообщалось, что его отец – гусар, а мать умерла при родах. Его тоже рекомендовалось сделать гусаром и жестоко наказывать… Каспар далеко видел в темноте, находил спрятанные металлические предметы, но не вырос, остался маленьким, о своей прошлой жизни вспоминал что-то странное: будто, всё время сидел, скорчившись и прижимаясь к трубе дымохода. Уже взрослый Каспар любил гулять в парке, его несколько раз пытались убить какие-то злоумышленники. В конце концов, им это удалось. Одно время считалось, что Каспар – родственник Наполеона, с этим связаны превратности его судьбы, но генетический анализ останков Каспара не подтвердил эту версию…
Пожалуй, к нам вхож параллельный мир, а мы – к ним. Представляю себе этого гусара, напившегося до зелёных чертей, изнасиловавшего маму Каспара, стоит он там с мутными глазами: – Идея.
– Какая идея?
– Иде я?!
Баба Марфа говорила мне неоднократно, что в тёмных комнатах живет Бабай. Интонация её голоса не позволяла понять: шутит она или серьёзно говорит. Я, разумеется, заглядывал в тёмную комнату: «Почему Бабая нельзя увидеть?», – на этот вопрос баба Марфа хранила загадочное молчание. Но у бабы Нюры однажды в комнате без света я увидел под кроватью маленького, пламенного, шахматного коня со старческим, глумливым лицом. Этот конёк мелодично что-то пиликал, я хотел залезть к нему под кровать, но подумал, что это Бабай. Я обрадовался: «Теперь он никуда не денется», – и побежал в освещённые комнаты с криком: «Там Бабай! Бабай!». Никто даже не подумал пойти со мной. Я вернулся в тёмную комнату один, но под кроватью никого не было. Я осмотрел весь пол по периметру, залез под кровать и вдохнул никем не тронутую пыль… Комната стала скучной: надо было сразу лезть под кровать. А совсем недавно маленький мальчик на улице припадал головой к груди дородной мамки, обхватывал её ногами за живот и хныкал. Мамка повторяла за ним, как громкоговоритель: «Тетю Сяку видел? Напугала! Ах, она!..».
А ещё знакомая мне рассказывала, как шла среди бела дня по площади с памятником. Такие места безлюдны на пятьдесят метров вокруг. Какой-то парень привязался сзади: «Девушка, хотите участвовать в женских боях? девушка…». Наконец, она повернула голову, чтобы ответить наглецу, но отвечать было некому. Он, как сквозь землю, провалился. Другая знакомая тоже вернулась домой, открыла дверь своим ключом и увидела в комнате старичка, маленького, как ребёнок. Он побежал от неё и спрятался за штору… Потом объём фигуры за шторой исчез.
Так что противоречий только в природе и нет.
Научный подход, скорее, бы нас привёл к вере в Бога, если бы на пути у него не стоял атеистический дискурс, с которым жить спокойней, на самом деле. Спокойней было жить и в христианской вере под защитой одного Бога, чем в языческой. А в атеистической вере вообще комфортно: нет никаких параллельных миров, никаких божественных сил, многобожия, играющего судьбой человека… Наука – оплот атеистического дискурса – и сама имеет поползновение превращать свой эмпиризм в веру. Над этим глумился ещё Гегель: «Говорят, что мозг вырабатывает внутри себя мысль, как печень желчь. Тело кое-что ещё внутри себя вырабатывает, и это тоже лучше держать внутри. Когда оно оказывается снаружи, все затыкают нос и со смехом убегают». Научный опыт ограничен, как и всякий опыт, а научный дискурс рассматривает его, как «чистый разум», превращает индукцию в дедукцию. Такая кривая логика свидетельствует о наличии в методе эмоций. При этом устанавливается логос вместо логики, – это уже противоречие в методе. Какой-то научный метод существует, но Вайнберг, например, его определяет, как эстетический: «Если теория красива, то она работает». Мы – нищие духом. Земля – наша!
Свидетельств о чём-то невероятном, на самом деле, можно найти очень много, если бы не желание покоя… Леонид Мацих рассказывает о тундровых шаманах, которые могут исчезнуть из яранги во время камлания, потом снова войти в дверь. Он считает это каким-то фокусом. Так спокойней и научней. Но писатель Олег Горбовский приводит случай исчезновения, который нельзя считать сознательно проведённым трюком. В начале 20-го века в России какая-то дама ехала с дочкой в поезде. Девочка спала в купе, но между двух станций исчезла. Поезд обыскали, потом остановили… Железнодорожники и мама пошли назад по шпалам. Они увидели девочку, мирно спавшую под своим одеялом на склоне холма рядом с железнодорожной насыпью. Когда её разбудили, она сказала, что просто видела сон, как играет с другими детьми… Они прыгали со стога сена вниз и съезжали по краю. Доверие к сновидению и эмоции помогли девочке телепортироваться вместе с одеялом; возможности нашего воображения оказываются довольно неожиданными.
Какое-то чудо может произойти и в храме. После разговора с отцом и братом Заполи через какое-то время я увидел его во сне. Мне захотелось ему поставить свечку. Я не верил в ритуалы, но раззуделась грудь… На работе мне разрешалось брать книги домой, чтобы читать вечером, а утром возвращать их назад. Я пошёл после работы… несколько поспешно сунул «Эликсиры Сатаны» Гофмана в карман, который был специально пришит для этой цели к внутренней стороне шубы, заметил, что сунул вверх ногами, но исправлять не стал, чтобы не поддаваться предрассудкам. Всю дорогу в церковь я был какой-то расчувствовавшийся… Когда-то мы с Заполей украли из этой церкви маленькую бархатную книжку с крестом на обложке, что лежала на столе вместе с бумажными иконками и показалась нам религиозной. За столом никто не следил. По расписанию книжку должен был со стола брать я, а Заполя – прикрывать меня своим телом, но «огромные глаза» смотрели мне в спину. Каждое движение моего пальца было у них на виду. Я мешкал. Заполя сам взял книжку, мы благополучно покинули церковь, а дома её рассмотрели. Она оказалась записной: вся в каракулях «за здравие», «за упокой». Обложка из бархатной скатерти с крестом ввела нас в заблуждение… Я уже взялся за ручку железной двери, чтобы её тянуть, но тяжёлая дверь, казалось, пошла сама, как по маслу. Мне даже руку подталкивало. какой-то длиннобородый старик, действительно, открывал её с обратной стороны. Он оказался между мной и дверью, выйдя на крыльцо, вдобавок и остановился. Я, наконец, сказал: – Разрешите пройти! – Его борода мирно двинулась: – Зачем тебе проходить?
Я вспомнил про книгу с именем Сатаны вверх ногами у себя в кармане, ничего не стал добиваться и ушёл. На следующий день я пошёл в церковь, сунув Гофмана в карман уже правильно. Дверь пришлось открывать самому. Я купил свечку, прошёл к подставке, где они горели. Ко мне приветливо наклонили свои горячие язычки полсотни золотых огонёчков, на сердце стало тепло и жутко. Мою дружбу с Заполей признавали на том свете…
Вообще-то, Заполя стал моим первым разочарованием в Нарциссах. Я сам этого не понимал, и меня, будто, переспросили. В том, что мы выражаем, случайность принимает только прямой смысл… В «Тошноте» Сартр заметил её обыденность, мы сами заметили её нравственный характер. Это – два противоположных момента, которые позволяют образовать какое-то понятие. Видимо, размышляя о возможном личном Бытии Бога, Делёза написал: «Множество не может быть включено в себя, как один из своих членов» … Действительно, внимание ничего такого не фиксирует, логика даже этого не допускает, но нам известен фрактал. Он включает в себя самого себя.
Нравственное расписание случайности толкает нас в объятия Бога… Правда, есть ещё один претендент на роль Творца. Это – эмоции. Надо спокойно разобраться с их заявкой… Так или иначе, эмоции существуют достоверно, а случайность делает всё совместно с эмоциями. Перемещение девочки во сне из вагона на косогор сопровождалось эмоциями. Жак де Моле на костре, проклиная французских королей, тоже не мог их не испытывать. Расчувствовавшийся Иисус Навин остановил заход солнца… кто-то в Канаде остановил восход: «Горькие слёзы застлали мой взор, хмурое утро крадётся, как вор, ночи вослед. Проклято будь наступление дня, время уводит тебя и меня в серый рассвет». – Такое иногда бывает, что не хочется никакого утра. Эмоции, задетые Сваном у какой-то кухарки, могли запустить процесс его судьбы. Возможно, они поселились в самой сонате Вентейля, настраивающей на любовь к чему-то падшему. Для такой «зарядки» сонаты могла послужить дочь Вентейля, для эстетически чувствительного Свана это оказалось неотразимым. Случайно Одетта рядом сидела. Бытие эмоций – загадка… Интеллектуальные силы покинули Свана в любовной коллизии, только на один момент у него наступило просветление: «Как же так: я убил несколько лет жизни, я хотел умереть только из-за того, что всей душой любил женщину, которая мне не нравилась, женщину не в моём вкусе!». Эмоции играют без правил, резвятся, где хотят, прямо, как Бог. С ними связан случай Кабирии, сотворившей свадьбу вокруг себя…
Кьеркегор пишет, что, ведя своего единственного сына к горе Мориа, Авраам скрывает свои эмоции. Намерение принести Ицхака в жертву он скрывает от верного слуги, от Сары, от самого Ицхака, может только молчать о том, что собирается сделать. По мнению Кьеркегора, его слова Ицхаку: «Бог сам усмотрит себе агнца», – являются иронией… Авраам себя подавил, в нём нет никакой речи. Почему они находят именно агнца, запутавшегося рогами в терновнике? Это же – не по правилам. В жизни такой случайности быть не может. По крайней мере, проще не верить в это, как в случайность. И человек не может сотворить агнца словами, к тому же вынужденными…
А из вагона на косогор вместе с одеялом человек может? А мстить триста лет королям после своей смерти? Это тоже за пределами здравого смысла. Это является даже не случайностью, а чудом, не поддаётся анализу, как и длинная ночь в Канаде. Все закономерности пространства и времени нервно курят в сторонке после таких происшествий. На самом деле, случайности просто сотворить агнца, запутавшегося рогами в терновнике. Можно допустить, что она реагирует на эмоции Авраама, а из него и слова не вылетают: сжат единый Голос Бытия. Можно нафантазировать, что ирония в словах Авраама была опущена, оставлен только прямой смысл: «Бог сам усмотрит себе агнца». У девочки тоже внутри всё должно было замирать и сжиматься, когда она прыгала со стога сена во сне… и случайно эти эмоции «вдруг» проигнорировали стенку вагона, движение поезда… и заботливо прихватили с собой одеяло. Пафос Кьеркегора вполне уместен по отношению к случайности: «Авраама никто не мог понять. В самом деле, чего он достиг? Он остался верен своей любви. Но тому, кто любит Бога, не нужны никакие слёзы, никакое восхищение, он забывает свои страдания в любви; да, он позабыл их так основательно, что после не осталось ни малейшего намёка на ту его боль, если бы Бог сам не напомнил ему об этом; ибо Он видит тайное и знает нужду, и считает слёзы, и ничего не забывает».
«Если точка начинает двигаться, возникает линия, движение линии создаёт плоскость, движение плоскости создаёт объём». Стремление точки вытянуться в линию Гегель называл встревоженностью…
Если пространство возникает, как следствие движения плоскости, на которой волнуются события, то почему не может быть двух плоскостей, одновременно раздвигающихся в объём? Как могут быть и две движущихся линии, разворачивающиеся в плоскость, а точка может вытягиваться в обе стороны и оставаться в центре… В итоге пространство – тоже самое, что и точка, только не имеющая границ. Смысл, который приходит первым, может быть удовлетворён таким результатом…
Создатель модели голографической вселенной проиллюстрировал её тоже двумя видеокамерами, направленными на ближнюю и дальнюю стенку аквариума с одной рыбой. Непосредственно видеть рыбу мы не можем, её видим через видеокамеры, как двух рыб. Их размеры увеличиваются и уменьшаются: изменения в размерах и движении рыб синхронно связаны, но «форма созерцания» мешает понять, что это одна рыба.
Нашему представлению о пространстве соответствует бесконечная пустота, но пустота космоса имеет искривлённую форму. Интересно, как у пустоты она может быть? Любая форма – присущность материи, а не пустоты… Амбивалентному представлению о пространстве соответствует бесконечная пустота + бесконечная плотность. «Чёрные дыры» в космосе уже доказаны. Дыра и пустота вербально тоже сходятся. Чёрная дыра, по мнению физиков, ещё и плоскость. Если чёрные дыры – двухмерный объект, то и галактики, сформированные вокруг них, – тоже объекты в длину и в ширину, Их высотой можно пренебречь в космическом масштабе. Почти двухмерный объект – природа, как плёнка, растянута по планете. Все плоскости похожи на диск. На него можно записать, что угодно, и это будет это играть… «Чёрная дыра» под воздействием гравитации, вдавливающая в точку, что угодно, могла бы послужить причиной возникновения принципа Вселенной, выраженного смыслом, который приходит первым. Кажется, в материи тоже больше пустоты, чем самой материи. Если ядро атома увеличить до пяти копеек, электрон будет вращаться от него на расстоянии в двадцать километров. Если атом становится размером с солнце, мы получаем солнечную систему… Не только материя наполняет пустоту, но и пустота – материю.
Благодаря материи, в свою очередь пустота искривлена, имеет форму. Этот принцип не зависит ни от чего: макро-микро – формы созерцания, с принципом не совпадает ни вид пустоты, ни вид материи. Какой-то простой смысл прячется за личинами.
Если в модели Гегеля плоскость является «причиной» пространства, создаёт пространство своим движением, то сама создаётся линией, которая, в свою очередь, создаётся точкой. С каким представлением можно связать эту начальную точку и причину её движения?! Движение в нашем мире – тоже безусловность. Случайность тоже невозможно себе представить статичной, хотя она может доказать, что угодно, в том числе, и статику, но движение, всё-таки, присуще точке, и это делает её определённость сразу же размытой. Точка, в пределе своих превращений в линию и плоскость, становится пространством, опять точкой, но уже без границ.
Наилучшим образом всё объясняет замысел. Мы не ломаем себе голову: произошёл ли пятиэтажный дом от двухэтажного, потому что замысел может развиваться и дальше… Если угадали замысел, не надо ломать голову и, кто возник первым, – человек или обезьяна. В органах свиньи и человека тоже много общего… Части замысла могут комбинироваться по-разному. Это не является бессмыслицей, по Делёзу, это – нонсенс, который производит смысл в избытке. Творение – тоже какой-то нонсенс. И чудо – нонсенс. И девочка не может переместиться из вагона на косогор вместе с одеялом, и солнце не может не взойти или остановиться на небосводе. Всё это – нонсенс, а не бессмыслица. Нонсенс создаёт культуру, сам выражая свой смысл. При этом смысл выглядит, как совершенная ложь… ибо это – общезначимый логос.
Сначала все зародыши развиваются, как девочки. Потом у одной половины снаружи оказывается то, что у другой остаётся внутри. Если у одной половины внутри остаётся «пустота», то у второй половины снаружи будет «материя». Материя и пустота взаимозаменимы, как смысл, который приходит первым. После какого-то пространственно-материального поворота смысл у этой взаимозаменяемости остаётся простой и тот же самый – и довольно сексуальный.
Размен наблюдается и в плане психики. Реакции моего сына со временем стали прямолинейными, исчезли эмоциональные подробности, которые были сначала, но мне случилось наблюдать свою маленькую сестру, которую привезли из другого города, когда ей был год, а мне двадцать лет. Я пришёл к бабе Нюре, чтобы увидеться с ними. Малышку в это время купали в ванне. Это была наша первая встреча, и на меня малышка не реагировала, безмолвно сидя в пене. Мама и бабушка хлопотали рядом с ней, но не трогали, и она тоже ничего не делала. Неподвижные щеки выдавали, что ребёнок ещё не умеет говорить, но меня впечатлил её лютый взгляд, а не неподвижные щёки. По крайней мере, я не стал с ней сюсюкать и скоро ушёл, чтобы не мешать… Во второй раз я увидел сестру в её двенадцать лет. Она опять приехала к бабе Нюре. Я узнал об этом и пошёл в гости, казалось, что встречу ребёнка с узкими, бесстрастными зрачками и т. д. Баба Нюра послала её открывать мне калитку. Мы встретились в воротах, можно сказать, первый раз в её жизни. Я, конечно, понял, с кем имею дело, когда увидел девочку, но у сестры был доверчивый взгляд, излучающий мягкое любопытство, губы нежно улыбались. От неожиданности я поцеловал её в эти губы, ещё сказал, что я – её дядя. Я просто запутался…Вообще-то, целоваться с роднёй у нас не принято. Это была эмоция.
Кажется, пока маленькие дети не умеют говорить, их «внутреннее» находится на поверхности. По Юнгу, это – анимус – внутренний мужчина у девочек, а у мальчиков, соответственно, анима – внутренняя женщина. Может быть, поэтому мы испытываем такой не ослабевающий интерес друг к другу после детства? Мужчины выражают «анимус» женщин, а сами видят в них выражение своей «анимы»? В этом что-то есть. Лирика Пушкина даёт представление о складе тонко чувствующей души – настоящей анимы, а сам он был бабник и дуэлянт. Анима была проявлена только в лирических стихах. В ранней лирике Ахматовой тоже есть стихи, великолепно выражающие её анимус.
Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:
«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».
Трубку свою на камене нашёл
И на работу ночную ушёл.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ея погляжу.
А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля».
1910г.
Судьбы ещё нет. Анна Андреевна – ещё девочка-девочка, даже сына себе представить не может, но её анимус – безжалостный бандит. Муж у неё вовсе не в третью смену работает. Он и есть бандит: «Трубку свою на камине нашёл и на работу ночную ушёл». Она тоже не христианская жена: «Дочку свою я сейчас разбужу, в серые глазки ея погляжу». – Это какая-то бестия, которая совсем не фантазирует социальное поведение. Сероглазый король, который ей не достался, тоже убит в фантазии, а соперница-королева стала седой. Где эти нежные, удивительные женщины, которых воспел Пушкин? Но Анна Андреевна – поистине великая поэтесса, – и такие образы у неё тоже есть: «Перо задело за верх экипажа, я поглядела в глаза его, томилось сердце, не зная даже причины горя своего…». Какое-то бессознательное притворство – женская жизнь, переложенная в стихи, – а иногда и сознательное: «А у нас тишь да гладь, божья благодать, а у нас синих глаз нет приказу подымать». Будешь притворяться, забудешь, кто ты такой. (с)
Если жить долго, «второй пол» проступает у каждого человека. Это движение к андрогину вызывает чувство печали и прибавляющихся лет. Мощные мышцы мужчин становятся какими-то округлыми… Женщины обретают усики… Пол – это образ. Мы воспринимаем мужчин и женщин, скорее, по привычке. Если кто-то сильно отличается от фиксированного представления, положенного ему по статусу пола, то вызывает отвращение. Отсутствие образа – это некрасиво. Пол – красив и определён, но «половина» – опять какая-то ложь.
Наше мышление не выражает правду. Творение – ложь, и эволюция – ложь. Я ничего не могу сказать, не солгав: «Случайность есть проявление сознания Бога!», – мои заявления не лишены волюнтаризма, даже если сознательно я не лгу. Любое моё представление – ложь. Это связано с тем, что каждый отдельный полюс эмоции определён, но вместе они – неопределённость. Наши представления стремятся к отчётливости, как у эмоциональных полюсов, но два полюса её лишены в принципе. Логика выходит из этой неопределённости, благодаря кодифицированной связи между посылками. Одна из них большая, другая – меньшая. Они имеют сходство с полюсами или моментами силы у Гегеля. Когда один момент развёрнут и распространяется, как среда, второй свёрнут в нём. Моменты разворачиваются друг за другом, и всё в порядке, а если разворачиваются одновременно? Это даёт возможность двух разных ответов на один и тот же вопрос. Эволюция и творение могут быть одновременно верны… Либо они верны только одновременно. Это – контингентная истина. Если сотворение мира подчинялось телеологии Бога, мир сохраняет подчинение цели, как свойство. Эволюционное изменение и целесообразная деятельность возможны в мире, в тоже время сотворённый мир, как «вещь в себе», самостоятелен по отношению к ним.
Надо сказать, что мы попадаем в некоторое затруднение с созерцанием времени, но мыслить его всё равно придётся амбивалентно… Способ видеть время – хоть циклическое, хоть прямолинейное, – опосредование с помощью чувств, а не понятие разума. Встречая человека через много лет, мы замечаем, как он изменился. Мы сравниваем его «образ» на линии времени, но видим изменения в человеке, а не текущее время. Категории разума могли бы определять время, если бы были, как следует, поняты, но и чувственное восприятие времени всё равно останется.
Вроде бы, доподлинно известно, что у времени есть стрела, которая движется от прошлого к будущему и совпадает со стрелой энтропии. Мы не возьмёмся определить – чувственная она или рассудочная, – но «стрела», являет нам какой-то простой смысл. Принцип амбивалентности должен включать и отсутствие стрелы. Как мыслить отсутствие стрелы у времени?! Будем надеяться, что тёмный предшественник оставил нам слово «вечность» для времени без стрелы. Сложно, конечно, себе представить время без стрелы, но, как говорил Делёз: «смыслом обладает даже квадратный круг». В «Мире без времени» в моём сознании существовала масса явлений, связи прослеживаются между впечатлениями, но для их развёртывания не хватает времени остановки в дверях. Катастрофически не хватает для протекания ни последовательно, ни одновременно. Времени просто нет. Это – ноль времени. События в сознании протекают без него.
Будущее раньше прошлого – тоже нельзя себе представить, но вот есть же опережающее отражение действительности! Нельзя прямо указать на время – вот оно, а ещё нельзя прямо указать на электричество. Я сейчас не имею в виду способ говорить: описывать или использовать электричество. Разность потенциалов в сети позволяет передавать электрический ток, есть электролиз. Известны способы переводить потенциальную и тепловую энергию в электрическую, но бег электронов в проводнике, в нашем представлении призванный материализовать электричество, не может этого сделать. Сколько не гони электроны из проводника, их там меньше не становится. Хотя описания работают: «Не влезай – убьёт!». Время тоже убивает рано или поздно.
Мы точно знаем об электричестве, что оно убьёт, – но что оно такое? Заряд? «Заряд загнал я в пушку туго». Это одновременно событие и его плоскость. Эту плоскость можно потрогать. Если заряд не взорвался, он материальное что-то… Мы воспринимаем световую энергию молнии, но это явление тоже не сообщает нам ничего об электричестве, как прибавление морщин на лице ничего не сообщает о времени. Морщины появляются со временем, но у мумий могут и не прибавляться. Значит ли это, что времени для мумий не существует, если на их плоскости нет события? Может быть, и значит. Электричество и время можно описывать, как события. События – это сверхбытие, как вязкость глины. Она способна потерять вязкость, стать твёрдой. Вещество глины является плоскостью её состояний, как событий. Морщины на лице наряду со множеством других явлений – тоже плоскость регистрации времени, но саму эту фундаментальную плоскость времени мы не знаем. Мы знаем, что это – чистая материя; но чистая материя – не понятие, нам не хватает «моментов», чтобы сделать её понятием. Это – самое интересное в вопросе манипулирования материей – моменты понятия чистой материи. Если вязкость и твёрдость глины – события на поверхности глины, способ её бытия, то и текущее время – способ бытия некой плоскости, которую мы наименовали чистой материей, толком не зная, что это такое, а она может содержать и время без стрелы, как глина может существовать без вязкости. События, они – то есть, то нет, то опять есть! Дерево то зеленеет, то нет, то опять зеленеет. Время исчезает для частицы, несущейся со скоростью света, та прилетит на другой конец вселенной за миллион лет для нас, но для себя за мгновение. Время замедляется и возле больших масс материи, на пределе замедления и ускорения может исчезнуть, как событие. Тогда мы –кто – неисчезающие боги или наоборот исчезающие? Без существования времени вообще должна возникнуть сингулярность без свойств, как глина без твёрдости и вязкости. Что это собой представляет? Значит ли, что исчезает чистая материя и наступает безмерность? Мы становимся каким-то простым смыслом, которому не на чем проявить активность… Где Гегель, где Кант?
Пространственно-временные характеристики материи в виде вращения в пустоте электронов вокруг атомов, хотя бы, теоретически измеримы, как и время, состояния материи темпоральны. Время – событие на поверхности чистой материи. Значит его может не быть, как события, и меня будет некому убить. Сама материя является частью определения пространства. Какой-то простой смысл сходится с ним, по мнению тёмного предшественника. Время въелось в половину определения пространства, но время – это не материя, а событие на плоскости материи. Материя не уничтожима, а события то являются, то не являются и измеряются числами. Электричество тоже измеряется в разных своих параметрах. Кажется, у времени измерений меньше. Мы плохо знаем, что такое время? Между электричеством и временем, как мы уже говорили, сходство и в том, что они убивают.
Дерево когда-нибудь бы упало всё равно, но молния сваливает его за секунду. Время и электричество могут быть похожи ив том, что не убивают. Известно статическое электричество, которое не убивает. Время без стрелы, по идее, тоже не должно убивать.
«Приходит день, и человек замечает, что ему тридцать лет. Тем самым он заявляет о своей молодости. Но одновременно он соотносит себя со временем, занимает в нём место, признаёт, что находится в определённой точке графика. Он принадлежит времени и с ужасом осознаёт, что время – его злейший враг. Он мечтал о завтрашнем дне, а теперь знает, что от него следовало бы отречься». (А. Камю).
Мы должны признать, что большую часть жизни не думаем о времени и о своём возрасте, личное время, по впечатлению, не течёт. Мы замечаем его течение иногда, как угрозу: «то чувство, что завтра уже сегодня, а ты ещё вчера». – но это бывает только в какие-то моменты, когда время начинает осязаться. Как тяжесть, время не доставляет никакого удовольствия. Если кто-то забыл, – дети тоже недовольны своим возрастом, им всегда кажется, что мало лет. Как лёгкость, время тоже не доставляет никакого удовольствия. Из-за неудовлетворяющего нас течения времени картина человечества – это картина встревоженности. Мы хотим либо скорее стать взрослыми, либо боимся прибавляющихся лет. Время и возраст можно воспринимать только, как что-то внешнее по отношению к себе, как угрозу: Я + мой возраст = кто-то «другой». Мы для себя – внешний мир вместе с временем и возрастом, кто-то, с кем неприятно соотносишься, как с дискурсом.
Представление о своём возрасте может быть галлюцинаторным, как это и бывает с внешнем миром, и чаще всего – галлюцинаторным менталитетом или каким дискурсом. В мои пятнадцать лет, например, моим убеждением было, что сексом можно заниматься лет до тридцати. И надо спешить, ибо половина этого срока уже прошла. Возраст в тридцать лет определил для меня возраст актёров в фильме «Анатомия любви». Люди состояли в браке и после тридцати лет. Что они там делали? Я бы раздвинул свои умственные горизонты, если бы задал себе такой вопрос, но я предпочёл поверхностный вывод и успокоился. О, моя зашторенная юность! Я могу сказать в своё оправдание, что у меня ещё была вся жизнь впереди, казалось, возраст в тридцать лет никогда не наступит и будет болтать где-то впереди. Я таким путём отделывался от времени, но зачем вообще сочинял его течение? Это морока – представлять себя в категориях времени: ты, всё равно, никогда не народ. Если время стоит в сознании, это расслабляет. Движение времени побуждает конструировать понятия, – а мыслить трудно. Мозг привык лениться и от этого получать эндорфины. (С. Савельев).
Итак, в сознании время стоит, а не течёт. Течение времени замечается нами только иногда и, как угроза. Мы воображаем эту угрозу, но какой-то простой смысл активно к ней относится, и время в сознании стоит каким-то простым образом. «Есть существенный элемент времени – прошлое, никогда не бывшее настоящим. Он не представлен, только настоящее представлено, как прошедшее или актуальное. Последовательность настоящих – проявление чего-то более глубокого. Уровни сосуществования предлагаются из глубины прошлого, которое никогда не было настоящим. Они – способ, которым каждый из нас восстанавливает свою жизнь на выбор. Эдип уже совершил своё действие, Гамлет – ещё нет. Но они проживают первую часть символа в прошлом, живут и отброшены в прошлое, так как чувствуют, что образ действия им несоразмерен». – Это Делёз пишет о мифическом времени древних. В цитате Делёза присутствует тревожный пафос, но как раз мифическое прошлое время он связывает с принципом удовольствия: «Маленький ребёнок, имитируя процесс чтения, всегда переворачивает книгу корочками вверх. Он при этом никогда не ошибается, потому что воспроизводит только фрагмент прошлого на основе принципа удовольствия». Мифическим прошлым для Делёза является и время, в котором живёт алкоголик: «Алкоголизм – это поиск особого эффекта, последний состоит в необычайной приостановке времени». В беспечном состоянии пребывают и любовники: «счастливые часов не наблюдают». Кажется, в мифическом времени отсутствует стрела времени. События, где мы молоды, красивы, здоровы и полны сил, как один ответ на все вопросы, наполняют сознание. «Ряд прекрасных изменений милого лица» произошёл, но игнорируется внутренним чувством. Прошлое на основе удовольствия присутствует и во всех идеологических скрепах. Правящая сила советского общества, например, зафиксировала в монументальной пропаганде декрет о земле, но, почему-то, не коллективизацию… Много примеров идеологических скреп приводит Екатерина Шульман. Они существуют по всему миру и во все времена.
В детстве я знал, что Ленин умер 22 января, потому что сам родился в этот день. В гостях у Сашки Атаманского даже утверждал его бабке, что как только Ленин умер, так я и родился… Бабка прижала меня. Тогда я впервые понял, что есть даль времени, но переживать по этому поводу мой простой детский разум никак не стал… Ещё на видном месте в детском саду висела картина, где Ленин стоит в окружении маленьких детей, дети были одеты, как мы. А он жил, вроде бы, давно. От взрослых Ленин верхней одеждой тоже не отличался, такое пальто могло быть современным. И я запутался: картина выглядела, написанной с натуры. В общем, я стал сомневаться в смерти Ленина. Всё наводило на мысль, что он до сих пор жив. Реалистически выполненная картина + детская доверчивость = удачная манипуляция моим сознанием в сфере мифического времени: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Миф в данном случае состоит в том, что Ленин не умер: – эта неопределённость течения времени стала основой для моей коллективной советской идентичности. При этом правду никто не скрывает: Ленин умер, – но логический закон тождества нарушается, благодаря суггестии: смерть Ленина становится равна его жизни… Когда я выслушал в детском саду, что он ещё и победил всех помещиков и капиталистов, то проникся вообще к нему восторгом. Мне захотелось рассмотреть на картине его мускулы. Ленин имел физическое преимущество перед детьми, но, как взрослый, казался нормален – не богатырь. Я решил поговорить об этом с матерью… Мать оказалась прекрасно осведомлена о Ленине и его делах. Ничего не пришлось ей объяснять, я почувствовал наше единение и спросил во весь голос: Как мог Ленин победить всех помещиков и капиталистов? Тех – целые тысячи, и этих – целые тысячи. Может, он их, хотя бы, по очереди побеждал? Победу по очереди тоже было трудно представить, но это был хоть какой-то ответ. Мать проявила заминку, возникла секундная пауза. За это время в меня внедрилось какое-то опасение, казалось, я подвёл свою мать. Казалось, о Ленине нельзя говорить. Тут я запутался: о Ленине говорили открыто… Нет, я не умолк! Я сам нашёл ответ: «За Ленина были рабочие и крестьяне!». Я с самого начала подозревал это, но ожидал подтверждающих слов от матери. Их пришлось высказывать самому. Мать вроде бы согласилась. Вопрос с мышечной силой Ленина отпал, но общая юбилейность по поводу его победы над помещиками и капиталистами стала мне непонятна. Ещё было непонятно, почему рабочие и крестьяне сами не победили их. Рабочих и крестьян было всё равно больше.
Этот вопрос я уже не задавал матери. Более того, секундное отсутствие звукового сопровождения моим мыслям о Ленине стало отключать в моём сознании проверку информации, касающейся Ленина. Мы живём прекрасно, благодаря Ленину, – стало логично. Что жизнь прекрасна сама по себе, как-то выпадало из поля зрения. В молчании матери тогда возникла некая нулевая интонация, и у меня «вдруг» сложилась реакция на несформулированную опасность – очень полезный социальный навык. Недостаток информации и опыта существует всегда. Этот реакция как-то компенсирует этот недостаток.
Впечатление, что я подвёл свою мать, тогда занырнуло куда-то, и я не делал в дальнейшем попыток высказываться самостоятельно на тему Ленина, просто молча переживал восхищение им. Совесть по отношению к матери оказала воздействие на логику, отключала её в течение какого-то периода жизни в данной теме. Хотя никакой физической боли я не испытал, но чем это не инграмма?
Логика в сознании функционировала, и впечатления, связанные с темой Ленина по смежности, получили сюрреалистическую окраску. Видимо, в эти моменты действовал условный рефлекс, возникший благодаря матери мгновенно. В моё сознание внедрился некий код в течение звуковой паузы в её словах. Эмоция матери сотворила его, сжав в ней единый Голос Бытия, который всегда лжёт. Смысл кода попал в меня телепатически, сошёлся с совестью и сотворил мою советскую идентичность. Это изменение сознания практически осталось мной не замеченным… Ленин связался со всяческим добром, выражаемым коллективно, но с другими историческими деятелями взаимодействовал весьма причудливо. Он был материальный, а они – стеклянные… Бабка однажды сказала: «Ленин да Сталин». Эти имена связывала созвучность. Я ни разу не слышал о Сталине, но немедленно понял, что он связан как-то с Лениным. Бабка ничего больше не добавила: суровая интонация заранее проткнула моё любопытство… Я не обсудил с ней новое имя, но позже спросил у матери: «Сталин был хороший или плохой?». Эта последняя возможность как-то вытекала для меня из полного молчания о нём. Мать сказала, что Сталин был плохой, правда, ушла в себя, что-то скрыв, но мне было достаточно. В целом она подтвердила существование Сталина. Правда, благодать социализма повисла на волоске. Мне стало интересно, как она уцелела, если человек с созвучным Ленину именем был плохой? Он мог её угробить. Логика дрыгала ножками в воздухе, как повешенная за шею, и в моём воображении Сталин немедленно стал, почему-то, стеклянной фигурой. Потом имя Сталина на многие годы ушло из поля зрения и стало повторяться, когда я уже подрос… Семейное предание подтвердило, что мать кое-что скрыла от меня, отвечая о Сталине… Бабе Нюре к слову пришлось рассказать, что мать и тётя Вера рыдали, когда умер Сталин, а лично баба Нюра и слезинки не проронила. Кажется, логика сама отстаивала себя, если в противовес Ленину Сталин стал стеклянной фигурой. Как личность, сквозь которую видно, нанесёт социализму вред?
То же самое повторилось и с прочими деятелями социализма. Я прочёл о Берии в одной из центральных газет большую статью лет в шестнадцать и с изумлением столкнулся с фамилией, звучащей так отталкивающе. Мне показалось, что такого деятеля не могло быть, его имя навевало мутно-прозрачный образ, который было несовместим с благодатью социализма. Мутный и прозрачный и есть несовместимость… но тётя Эля вспомнила охотно частушки: «Берия, Берия, вышел из доверия, товарищ Маленков надавал ему пинков». Мне пришлось заодно поверить и в Маленкова…
Орвелл просто обескураживает: моим родственникам Маленков и Берия не пришлись к слову до моих шестнадцати лет: «несуществующие люди». Такие персонажи должны были обрезать волосок социализма. Я осязал крушение его благодати, но она чудесным образом сохранялась. Нечего и говорить, что Берия и Маленков стали стеклянными фигурами. Впрочем, я плохо их себе представлял, но, когда никакой благодати социализма в моём сознании уже не было, баба Нюра рассказала, как в молодости работала в столовой: там висел портрет Ленина и Троцкого голова к голове, украшенный венком. «Потом Троцкого вынули – остался один Ленин». Я даже помнил, как Троцкий выглядит, но мне всё равно показалось, что рядом с Лениным висела стеклянная фигура… Почему Хрущёв для меня не стеклянный? Этому можно найти только одно объяснение: родственники рассказывали о нём анекдоты… Выраженный смысл, видимо, меняет дело. А логику деформирует смысл который не выражен. Как только он возникает, логика тоже начинает прятаться.
Невыраженный смысл искажает логику, а выраженный становится ложью. Дилемма выглядит не радостно… Невыраженный смысл меня не разрушает до основания, стеклянные образы выводят логику за скобки в ситуации идеологических догм и спасают в мышлении для других случаев. Логика делает образы логоса стеклянными, когда не может справиться с ними. Моя советская идентичность – общезначимый смысл, какая-то жертва с моей стороны «другим», а бенефициаром этой жертвы является дискурс. Логика оказывается более связана с менталитетом.
Уссурийский тигр делает петлю и ложится возле своих следов. Его жертва отождествляет положение дел с отсутствием тигра. Следы не пахнут, «вдруг» он появляется с подветренной стороны: «Нечто, заставляющее мыслить – объект основополагающей встречи. Растёт насилие того, что заставляет мыслить». Мыслить, значит, схватывать, внутреннее чувство преодолевать. Тигр ввёл в него ложную посылку. Некое знание о себе – общее свойство всего живого, – у животных внутреннее чувство есть, иначе бы у тигра не было шансов использовать застой в схватывании. Инстинкт жертвы получил пробоину: думать трудно и долго. Жертва парализована, но, если она спасётся, то, как следствие, и размножится. Это – награда и доказательство способностей. Тигр, который вводит в сознание жертвы ложную посылку, принадлежит к царству зверей. Это у него самого инстинкт такой, – но запущенное в сознании жертвы время представляет собой какой-то жертвенник. С этого жертвенника можно удрать, если случайно повезёт.
Запущенное время течёт в одном направлении, совпадает со стрелой энтропии, разрушения и некой объективности. Средневековый властитель Тимур тоже стремился запустить течение событий в сознании завоёванных народов только в одном направлении, отрубал головы и складывал их в кучу, фабрикуя мутно-прозрачные образы бунта против себя. Тимур стремился отменить у покорённых народов мысль о бунте против себя, время в их сознании запускал в одном направлении: сопротивление Тимуру – не в этой жизни. Он закладывает в покорённых «здравый смысл», который течёт от более дифференцированного к менее дифференцированному: от двух возможностей к одной. И не было становления других мыслей, – только не сопротивляться. У жертв уссурийского тигра условный инстинкт никуда не течёт и срабатывает, по идее, мгновенно. Это время течёт, вторгаясь в него. В безусловный рефлекс время вообще не вторгается. Оно там остановилось ещё в утробе матери. Безусловный рефлекс – отдёргивать руку, прикоснувшись к чему-то твёрдому и горячему – опережающее отражает действительность и обгоняет время. Мы почувствовали только твёрдое, ещё не обожглись, а рука уже отдёрнута. Чувство ожога будет, но позже. Безусловный рефлекс есть зеркальная противоположность мысли, которая сама подвижность, и течёт. Он даже противоположность условного рефлекса, который является каким-то её зачатком. Условный рефлекс тоже сразу является ставшим, думать уже не надо, но время всё равно в него как-то вторгается, если я больше Ленина не воспринимаю, как благое благо. Сам условный рефлекс, вроде бы, не течёт, как мысли текут на его основании, похожим на дедуктивное, но со временем тоже изменяется. Это происходит «вдруг». Таким образом, мы всё равно фиксирует какое-то дискретное течение времени в условном рефлексе, напоминающем собой монолит и непрерывность. Мгновенное становление условного рефлекса имеет подобие и в становлении мыслей, но время в процессе их становления уже осязается. Становление мыслей требует времени, потом они тоже становятся некой дедуктивностью сознания. Становящаяся мысль колеблется в обе стороны, время проходит, но сначала не приносит видимого результата. Мысль ускользает в обе стороны, течёт, но не в единственном направлении. Тёмный предшественник зафиксировал в слове «становление» этот момент времени, похожим на время в инстинкте. Становление имеет смысл чего-то, стоящего на месте, а время колеблется в обе стороны в становлении.
Кроме Тимура, отменить становление чего-то другого в сознании и сразу перейти к инстинкту стремились и в Древнем Риме. Легион, бегущий с поля боя, подвергался децимации, и мысль, чтобы отступить у легионеров становилась «прозрачной». На поле боя был только смысл – сражаться. Думанье в другую сторону не допускалось, приносилось в «жертву». Это – здравый смысл, который стремится от более дифференцированного к менее дифференцированному: от двух возможностей к одной.
Из этого следует, что идентичность может быть навязана. Она находится на уровне инстинктов, а не разума, который только напрасно тарахтит рядышком, преследуя интересы военачальников. Кажется, что человек всё время думает и кем-то становится, когда в сознании тарахтит дискурс. На самом деле, время вместе с дискурсом только проходит.
Однажды я наблюдал на остановке молодую женщину с собакой в наморднике. Маленькая девочка вслух выразила мысль её погладит, но боялась… Женщина подбодрила: «Ну, ты будешь гладить её или нет!?». Девочка справедливо расценила это, как приглашение… к девочке мальчик присоседился – гладить собачку по голове. Та заводила глаза, но вела себя покорно, хотя незнакомые люди лезли в её личную зону. Ей пришлось быть культурней всех, это была идентичность. Какой-то постоянной компонентой идентичности может считаться совесть и Нарцисс, но у собаки это был условный рефлекс подчиняться хозяйке.
По поводу идентичности можно согласиться с социологами: «Это система групповых ценностей, которую человек сознательно разделяет». Разделяемые ценности возбуждают у человека уважение к себе самому, чувство сопричастности и важности, но проблемы Нарцисса, которому приходится врать и приспосабливаться к коллективным ценностям, нас не интересуют… Ещё в идентичность входит возрастная, половая, ролевая, национально-историческая, территориальная и прочая конкретность человека, – а он переедет в другую страну или попадёт в иную социальную страту и забудет свою идентичность. Его условные инстинкты изменятся, он приобретёт новые. С более высоким уровнем возможностей идентичность примиряется с удовольствием. Вряд ли кто-то грустит о своём подневольном детстве, когда слова взрослых окружают сознание множеством табу. Как полагающееся чувство, грусть о детстве сильно преувеличена. Оно сознаётся, как время без стрелы, но этот контур и так всегда с нами, зачем поднимать его в сознание? Вернуться к катанию на велосипеде можно и во взрослом возрасте: качать мышцы ног, поддерживать физический тонус или вытрёпываться. Дети с велосипедом тоже вытрёпываются. То ли взрослые остаются детьми, то ли дети так взрослеют… Но взрослые решают проблемы, которые у них накопились со временем. Это время и есть главная проблема. У детей её просто не может быть. И, если правы социологи, эта грусть – не наша идентичность.
Мы по-прежнему ищем «я», отыскивая начало мышления, а ближе всего к началу мышления безусловные рефлексы. Они, кстати, и проще всех.
Если сознание не контролирует свой уровень, который манипулирует течением времени, то кто его контролирует? Сознание может изменяться. Время всё равно будет стоять в каком-то контуре и течь в других. Между контурами – изменяющимися и неизменными – будет расти напряжение, запускающее смысл, который приходит первым. После того, как условный инстинкт мгновенно возник, время не течёт для него, но информация в сознании накапливается и может инстинкт незаметно отменить. Это тоже будет казаться мгновенно. Не смотря на то, что время для условного инстинкта стоит, его смысл практически не отличается от здравого, по большому счёту являющегося тоже автоматическим. Совесть и Нарцисс также создают автомат из нашего внутреннего мира. Если время является событием на плоскости материи, то рефлексы и эмоции – события на плоскости чего? Это – не материя. Иначе бы они подчинялись времени безусловно.
Отсутствие запаха на следах, головы, сложенные горой у ног Тимура, метаболический вихрь, вращение небесных тел – всё это события, но на разных плоскостях. Время течёт событиями, становится идущим: секунды, минуты, часы… А время становления никуда не течёт, это – прямая линия, которая растягивается в обе стороны, но секунды, минуты, часы проходят. Прямая линия олицетворяет эмоции, ускользающие в обе стороны к внешнему и внутреннему, и прямую линию Делёз считал самым страшным лабиринтом.
Время Хроноса отвечает на вопрос, какой отрезок времени тянулось что-то: существовала клетка, организм, мелодия… Кажется, что и не может быть другого времени, но Надежда на бессмертие отрицает Хронос. Это – самое глубокое представление Нарцисса о себе, его отрицают и инграммы Хаббарда… Время становления скользит по линии Эона. Хронос в лучшем случае отмеряет на ней регулярные случаи, а калибрует прямую линию Эона совершенно неравномерно «вдруг». После «вдруг» время уже не может сомкнуться неразличимо. «Вдруг» опять какой-то «друг», – тёмный предшественник шлёт привычный знак.
Как происходит становление чего-то? Почему настоящее «вдруг» становится прошлым, хотя было актуальным два года или десяток лет подряд и, казалось, так будет вечно… Что-то копилось в вихре событий. «Событие неотделимо от тупиков времени, от простоев. Это даже не простои до и после события, простои в самом событии». (Делёз). Нужно сказать, что прямая линия Эона – это не поступательная линия прогресса. Прогресс тянется в одном направлении. Это – дискурс. В один прекрасный момент он может исчезнуть, как исчезли мамонты.
«Вдруг» – маска случайности. Чем медленнее развивался процесс, тем больше регулярности, как закономерности, в нём могло быть прослежено. Может, речь идёт только о степени нашего осознания… Какие-то процессы протекают незаметно, их результат возникает «вдруг». Может осознание закономерностей так вырасти, что исчезнет случайность? На скользкой дорожке упал прохожий, вас тоже угораздило, не упасть, совсем другое угораздило, но ведь случайность предупредила, что место опасное. Что не осознали? Дело даже обстоит более безнадёжно. Событие становится «злым» или «добрым» по своим последствиям. Это не зависит от осознания наперёд, оно уже является фактом. Но, допустим, вы всё досконально видите наперёд. Жизнь стала лёгкой и весёлой, но в футляре. Что делать в раю, если там нет грехов, тотальная рациональность – в итоге. Это – и есть затемнение. Так что от случайности не денешься никуда. «Вдруг» не променяешь на жизнь в раю или как при коммунизме.
Закономерность без случайности не существует, как ничто без своей противоположности. Этот закон не знает количественного ограничения, только качественное: ничто, значит, ничто, – но тут возникает одно тонкое место, связанное со словоупотреблением…
Бруно Латур использовал словосочетание «трансцендентные законы экономики» в одной своей работе. Такие бессмысленные словосочетания позволяют Нарциссам разделяться со своим непониманием и любоваться этим непониманием, – но наталкивают на некоторые соображения. Трансцендентному (непознаваемому) противостоит имманентное (познаваемое) – т. е. законы. «Трансцендентное» и «трансцендентальное» нельзя путать. В одном случае «непознаваемое», в другом – происхождение знаний или начало мышления. Очевидно, что трансцендентный и имманентный противоположные понятия. В то же время трансцендентное обосновано случайностью: больше ничем обосновано быть не может, иначе превратится в имманентное. А что будет противоположным понятием для случайности, если трансцендентное противоположно имманентному? Имманентность (закономерность) уже не может быть таким понятием. Случайность – основа для трансцендентного, значит, и для имманентного. Она – безусловней этих противоположных понятий одного ряда…
Благодаря регулярным событиям, сознание различает закономерности, но случайные события являются началом этого различения. Событие, по большому счёту, и есть случайность, даже регулярные события. Они могут «вдруг» исчезнуть. Солнце, например, не взойти в Канаде. «Вдруг» – не погрешность разума. События привлекают внимание, его организуют, что-то делают «вдруг» заметным. Это – начало внимания, «вдруг» собирает его в «фокус». Когда моё глупое сознание различило себя в таком же глупом сознании другой особы, мы образовали с ней сходящуюся серию. Это различение было отождествлением, но, по большому счёту, благодаря этому явилось различением, возведённым в квадрат. Закон перехода количества в качество гласит: количество, возведённое в квадрат, является новым качеством.
Случайность не укладывается в рамки пространства и времени. Космос и события на молекулярном уровне подвержены случайности. Время, в которое случайность себя реализует, тоже не имеет размеров. Вселенная со всеми своими закономерностями может «вдруг» исчезнет, в то же время после этого возможна случайность.
Единство необходимости и случайности Гегель называл абсолютной действительностью… Случайность существует, как закономерность, если подчиняется правилу нравственности, в то же время не подчиняется даже собственному правилу, – не иметь никаких правил. В нашем обыденном представлении случайность – что-то досадное, потому что нет правил, но чаще всего своим отсутствием правил случайность задаёт направление процессу.
Случайность – это какие-то пустяки, но пустое – синоним простого.
Попытки высказать некий один, простой смысл и вывести из него весь мир предпринимались философией с самого начала. Фалес полагал таким началом воду. Член Американского философского общества Стивен Вайнберг так пишет об этом: «Если считать, что все вещества имеют единую основу, то вода не так уж плоха в этой роли. Она бывает не только жидкой, но твёрдой и газообразной, также очевидно, что без воды не может быть жизни…». Анаксимен разделял идею, что всё создано из некой простой субстанции, но с его точки зрения это был воздух. «Подобно тому, как душа, будучи воздухом, сдерживает нас, так дыхание и воздух объемлет весь мир». Ксенофан считал землю первичной субстанцией: «Из земли всё вышло, в землю всё обратится». Гераклит учил, что основой всего является огонь: «Этот космос один и тот же для всех не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий». Анаксимандр подметил взаимное превращение четырёх элементов друг в друга и счёл, что ни один из них не достоин быть принятым за субстрат, но «нечто иное, отличное от них». Взгляд на то, что вещество состоит сразу из четырёх элементов – воды, воздуха, земли и огня, – восходит и к Эмпедоклу. Мы тоже хотим вставить свои пять копеек в эту дискуссию древних: мышление может упорядочить огонь, воду, воздух и землю по некоторым признакам. Земля неподвижна и непроницаема, вода – проницаема и подвижна, воздух проницаем и ещё более подвижен, огонь – только подвижен, но не проницаем. Всё, попавшее в огонь, превращается в пепел. Пустота – проницаема и неподвижна. Это – пятый элемент. Что может быть проще пустоты? Она может упорядочить признаки остальных элементов. И разве случайность и «вдруг» не олицетворяют пустоту сознания, создающую равновесие между элементами?
Что философское знание существует, доказал Гегель вопреки себе. В научном обороте того времени атомы рассматривались, как идея. Они были только пределом делимости. Гегель сам писал, что атомов не существует. Он давал дефиницию качества через количество на каких-то простых примерах едва ли не сыпучих продуктов, не подозревал, что атомы откроют. Когда это случилось, их принадлежность конкретному веществу – качество – оказалось связано с количеством у них протонов и электронов в ярде и на орбите. Эти элементы одни и те же у водорода, гелия, золота, железа…
Удваиваясь, количество меняет качество на противоположное. Этот закон касается материального и духовного. Удвоение – это возведение в квадрат: «Одни и те же качества у количества создают противоположное качество», – гласит метафизика Гегеля. Например, кислород и водород обладают одним и тем же качеством: один газ, поддерживающий горение, а другой – горючий газ, но вместе тушат огонь, соединив свои одинаковые качества в молекуле воды. Без этого преображения качества через количество горючий газ и газ, поддерживающий горение, в конечном счёте, сожгли бы весь космос и привели к пустоте, но сама эта «пустота» задаёт направление против себя. Вода представляет связанный огонь, который останавливает горение.
Борьба противоположных тенденций друг с другом стремится к пустоте, к взаимной ликвидации, как своему пределу. Мы ликвидируем мир, мир ликвидирует нас, но, на самом деле, заботимся друг о друге.
Случайность связывает всё, по чему пробежала трещина, и убеждает, что всё совместимо. Мир обладает безусловным тождеством самому себе. Снег и деньги могут превратиться друг в друга, а противоположности друг в друга превращаются закономерно. Бедность и богатство – одно и то же. Совозможность событий – причина регулярных случаев, а несовозможность – причина чуда, и трудно отделаться от впечатления о сознательном намерении случайности, отменяющей любые регулярные случаи и допускающей любые чудеса…
Я заметил когда-то противоположный смысл у междометий «ха!» и «ах!» и его формальный признак. Это было давно, а недавно в соцсетях мне предложили подробно рассказать о себе. Я пошутил: «Начну с детства», без труда удалось вспомнить первое мнение о себе: «Гадкий Утёнок», – но скоро рассказывать нужда отпала. Я продолжил рассказ самому себе: мне «вдруг» захотелось согласиться с Ницше, что нет никакого «я». Всё шло более-менее гладко, пока не вспомнился случай с петухом… Врождённая совесть оказалась сюрпризом, но позволяла вырваться на оперативный простор… я и раньше задавал себе вопросы, откуда берётся сознание, мне удавалось забираться в самые узкие норки, отыскивая его начало, но в самых недоступных местах стояло зеркальце или хотя бы его осколочек, за который было не заглянуть, этот осколочек отражал моё уже существующее сознание.
После того, как я набрёл на совесть, возник целый ряд случайностей. Бывшая жена принесла «Скорбь Сатаны» почитать, и книга пригодилась в работе, племянник оставил сыну Виктора Пелевина. Сын показал книгу мне, мы вместе смотрели «Поколение Рepsi». Я только начал писать, а в двух случайных книгах информация, дающая в руки нить. Эти вызывающие изумление подсказки сыпались и дальше… Случайно привлек внимание А. Дугин на youtube со скороговоркой: «Дериоз… Дериоз…». Речь шла о каком-то французском философе. Google не знал Дериоза. Я стал слушать Дугина ещё раз… В сингулярных точках Делёза мне удалось узнать свои точки из числового поля, которое когда-то я обнаружил между строчек таблицы умножения. Точка распадалась на две половинки, сложно связывалась с полем, как целым. Кант был счастлив, что мог мыслить точку, как простое представление.
Плывущий смысл точек лишал всё на свете безусловности. Деревянная ручка ножа могла оказаться опасней его стального лезвия. Может быть, это безумие? «Да, конечно». Но если кто-то разделяет твою реальность, ты уже не сумасшедший. Делёз – моё забытое alter ego. Можно добавить, что все цитаты в книге найдены случайно, их доля, хранившаяся в памяти, была ничтожной. Случайность предопределила мне вытряхивать накопленное сознание, и теперь, по нравственному закону, все носители информации, которые мне нравится и не нравится, приводятся к общему знаменателю. Кого цитировать, выбирает она, а не я. Я говорю «она» вместо «я», как форменный шизофреник. При рассмотрении случайности непредвзятым образом приходится признать, что она существует объективно, различается помимо воли, задевает эмоции. Из-за этих эмоциональных встрясок её предпочитают игнорировать, не замечать чью-то безусловную волю. Случайность играет без правил, и окружающие прячут голову в песок. Страшновато смотреть в глаза Богу. После созерцания у случайности нравственности, религиозный пафос действует на меня притягательно.
Это – наша судьба. Мы обречены слышать и видеть только самих себя, находиться под ярмом рациональности, здравого смысла, дискурса и всего прочего. Но есть мнение, что Бог отменяет судьбу, возможно, Он тоже хочет не только всё знать, но и надеяться на случайность.
Приложение к четвёртой главе.
М. Гефтер. «Происхождение мужицкого царя и Ганди».
«Итак, вышел Ленин из блокады (Разлива), а в ЦК готовятся к заседанию 2-го съезда Советов. Гениальна политическая идея Троцкого – соединить съезд с восстанием в Петрограде. По вопросу о земле – это, кстати, мы раскопали в нашем секторе – доклад сперва поручают делать Ларину и Милютину. Грех покойников обижать, но я легко представляю этих догматиков, особенно сумасшедшего Ларина. Что они от имени РСДРП (б) предложат мужицкой России? Какие-то совхозы! Но в последний момент появился Ленин, и вопрос о докладчике отпал: о земле вправе выступать только он, это ясно для всех. Ленин идёт к трибуне – он совершенно не готов! Тогда он просто достаёт из кармана эсеровский наказ о земле, добавив к нему пару вступительных фраз, его зачитывает – и всё! Игра сыграна. Программой большевиков стал наказ мужиков-эсеров – а в Советской России появился мужицкий царь.
Ну, а если б Ленин ещё день просидел в подполье и эти двое ортодоксов выступили с национализаторской программой РСДРП (б)? На этом для Ленина и большевиков всё бы кончилось.
Вот что такое история: встреча несовместимых. Историческое начинается там, где вещи, доселе несовместимые, оказываются совмещены. В момент, когда несовместимое станет совмещено, является харизматический лидер. Человек, который извлёк из кармана чужой наказ и объявил его всей России как программу советской власти. Совпадающую с политической монополией большевиков.
Глеб Павловский: – Да случай красив. Но согласитесь, что случай чертовски кровав. Махатма Ганди этого не одобрит.
Михаил Гефтер: – Но почему? Ленина и Ганди роднит спонтанность главного хода и немыслимость выбранных средств. Плюс интуиция мира в рамках локальных задач.
Известнейший случай 1930 года Индийский национальный конгресс в противоборстве с Англией зашёл в тупик: лидеры в тюрьме, мирные средства исчерпаны. Радикалы берут верх, ради независимости прибегая к самым свирепым действиям. Тогда Ганди идёт к берегу моря и начинает выпаривать соль. Призвав народ Индии делать то же – не покупать соль и не платить налогов британской короне.
Ганди, нашедший непрямой ослепительный выход из плохой ситуации, подобен Ленину осенью 1917 года. Россия уже перестала существовать. Власть и фронт рушились, мужик на селе озверел и никого не слушал. Ленин, который просто взял наказ о Чёрном переделе и озаглавил его «Декрет о земле», – чем не Ганди, выпаривающий морскую соль?
Теперь погляди на результат. Разве результат Ганди не страшен? Миллионы убитых в резне, разделившийся Индостан и его собственная гибель – разве не доказательства его поражения? Разве финал Ганди не сопоставим с мучительным финалом Ленина, потерявшего власть над ходом вещей, который он начал? Исторический деятель вымеряется не тем, что опередил время – иногда ему лучше отстать. В случайный момент он улавливает единственное, немыслимое средство, чтобы двинуть к цели массу слепо возмущённых людей. Обратив слепоту в сообразное их умам действие. В эти минуты лидер воплощает собой историю. Таков Ленин в октябре, таким был Ганди. Но деятель измеряется не только звёздными часами, но и в равной мере поражениями. Опыт поражений – великое наследие людей. И в наследии Ленина для меня наиболее интересен интеллектуальный опыт поражения.
Введём понятие исторического деятеля как проблему, позволяющую разъяснить, почему Ленин – человек без биографии. С Ленина смыто всё личное – это возмездие или законная расплата? Или он сам намеренно загонял личное внутрь, до неузнаваемости и невидимости его? А последующее смыло личность, напрочь и навсегда.
Глеб Павловский: – Полагаю тебе скажут: Ульянов – просто человек, который случаем и стечением обстоятельств попал в центр событий и своей маниакальной сосредоточенностью на власти сумел повлиять на всё.
Михаил Гефтер: – Дело в том, что Ленин сам обстоятельство (случайность).
Глеб Павловский: – Любимейший либеральный миф, будто царя Александра убили в момент, когда он «даровал России Конституцию» и вышел погулять.
Михаил Гефрер: – Рысаков кинул бомбу наугад и не глядя – не попал, убил кучера. Царь вышел из кареты. Изображают это в сентиментальных красках: мол, беспокоился о жизни раненых. Ничего подобного, ошеломлённый Александр вывалился из коляски, бессмысленно кружил. Полицмейстеры уговаривали ехать во дворец. Схваченный Рысаков бормотал дурацкую фразу вроде: «Не вышло, вот и кончилась жизнь». Гриневецкий со второй бомбой стоял у парапета, но сбежались люди, и он не мог её бросить: толпа народу, царь в толпе. Как вдруг Александр сомнамбулически пошёл прямо к нему сквозь толпу.
Царь подошёл к Гриневицкому – зачем? Тот стоял, расслабленно облокотившись о парапет, как Онегин. Масса людей, бросить бомбу уже нельзя. Но когда царь сам подошёл к нему абсолютно вплотную, глядя в глаза, он покорился случаю – и уронил бомбу под ноги обоим.
Глеб Павловский: – Потрясающе!
Слово «эмоции» переводится на русский язык, как «потрясать», и действие случайности именно «потрясает», по точному выражению Глеба Павловского… Император сделал свой выбор, он мог поддаться уговорам полицмейстеров, случайность давала шанс, но ему хотелось всё переживать там, где это случилось. Он не подозревал, что время сжалось, что следующее предсказанное цыганкой покушение будет прямо сейчас: «охота пуще неволи!». Царь выбрал то, что ему нравилось сию минуту. Нравственный выбор был и у Гриневецкого. Он собирался убивать, а не умирать. «Вдруг» это стало безнадёжным тождеством.
Глава 5 Пассажир без места
Экклезиаст: «В многой мудрости
много печали». Печаль – это эмоция.
Значит, мудрость связана с эмоциями.
Я извлекаю основания для различения из всяческой обыденности и узнавания. Всё, что раньше считал различным, а теперь отождествляю, я различаю… Именно опыт различений накапливается в памяти. Не всякое событие вызывает различение. Мы видим всё, что видим, и отождествляем. Нет причин для интереса к прохожим. Я отождествляю их с прохожими, и они выскакивают из памяти почти в момент отражения в сознании, но замечаю красивые женские лица… Моё различение связано с моими интересами. Оно происходит, как отождествление внешних событий с внутренним содержанием. События, волнующиеся на поверхности мира, волнуются и на моей церебральной поверхности…
Моё сознание загружено дискурсом и менталитетом. Это – логос, как мы решили считать. Когда я отождествляюсь с ним, мой все различающий «вектор» изменяет собственной природе. Я отличаюсь от различения и добросовестно считаю себя своими масками. Кто я такой? Мы не стремимся себя увидеть, как Николай Аполлонович Аблеухов. То, что можно увидеть, изменяется, согласно законам квантовой механики. Так мы себя никогда не найдём.
Мой центр восприятия –сама динамика, в то же время это какой-то устойчивый, определённый смысл. Моя рациональность и эмоциональность соотносятся, как постоянность. Они случайно стали тем, чем стали… но это – мой общезначимый смысл. Он представляется другим и мне, как тождество. Мы предсказуемы друг для друга. Эта устойчивость общезначимого смысла – маска какого-то простого смысла, – он способен быть активным, игнорируя всякие рамки, но сам никогда не показывается. Если «другие», «мир» и я являются логосами, какой-то простой смысл всё равно устойчиво приведёт наши взаимоотношения к общему логическому знаменателю. Посылками его умозаключений будут наши логосы… Он, как пластилин, из которого можно лепить разные фигурки. Пластилин для них – материя, – но фигурки даже не аспект его фактуры.
Делёз определяет первую операцию восприятия, как пассивный синтез. Это кажется неожиданным, потому что мы полагали, что логика анализирует сначала, а потом синтезирует, но, вспомнив Канта, согласимся с Делёзом: «Мы внутренне подвергаемся воздействию и должны относиться пассивно к самим себе». Нарцисс, под которым мы теперь понимаем психику (Нарцисс вместе с совестью), – пассивен. Как добраться до этого «я», который, по мнению Канта, является чем-то простым и при этом самым активным?
Мы должны для начала согласиться с логикой, что анализ возможен там, где есть сложное или сложенное. Как что-то «сложенное» возникает в восприятии Нарцисса? На изначально сложное у нас один претендент – эмоции. Почему вдруг они оказываются в пассивной роли?
В трудных случаях, нас выручал смысл, который приходит первым… Отражение в зеркале точно повторяет меня, но часы с левой руки переодевает на правую, мой правый глаз в зеркале – левый. Активное и пассивное – тоже зеркальный смысл. Наше сознание призвано познавать смысл и организовано на принципах смысла, который приходит первым, всё остальное мироздание организовано на этих же принципах.
Я и моё отражение – противоположности, но ужасно похожи друг на друга. Эмоции, которые связывают Нарцисс и какой-то простой смысл, могут быть тоже похожи. Нарцисс похож на простой смысл. Он всегда активный. Человек совести – противоположность простого смысла, но простой смысл ещё как-то иначе противоположен и Нарциссу. Вместе с человеком совести они представляют разные модификации психики.
«Первая операция восприятия» Делёза – это форма созерцания, которая запутывает простой смысл. Вопрос, поставленный Делёзом, сразу смешивает смысл и формы его созерцания: «поворотные пункты и точки сгибов, узкие места, узлы, преддверия и центры, точки плавления, конденсации и кипения, точки слёз и смеха, болезни и здоровья, надежды и уныния, точки чувствительности». Преддверия, центры, узкие места, – формы созерцания, но чувствительность, смех и слёзы, болезнь и здоровье, надежда и уныние – уже смысл. Бесконечные слёзы без смеха никак не определяются, один полюс без другого не существует, как смысл. В этом отличие смысла от форм созерцания, которые могут идти бесконечно в одном направлении или внезапно возникать, как препятствие для простого смысла, который их активно преодолевает, но при этом запутывается. Когда теряется сознание под наркозом, мерные щелчки во тьме – последнее восприятие. После него сознание проваливается вместе с тьмой, которая в последний момент выглядит плоской на фоне этих щелчков. Сознание возвращается тоже с оглушительными щелчками, потом возникает тьма и через некоторое время становится тусклой картинкой мира. Прежде, чем тьма развернётся в тусклую бледную плоскость, и возникнет глубина трёхмерной картинки, время начнёт течь между щелчками, как их мерность. Звуки (щелчки) – первое и последнее восприятие.
Смех, и слёзы сходятся, как противоположный смысл, размещаются в системе координат друг против друга, а координаты выходят из одной точки. Они вытягиваются, как линии, благодаря которым точка «преодолевает себя», но это описание формы созерцания, которое нас запутает. На самом деле, картина координат ничем для нас не предопределена. Они могут быть расположены под прямым углом или скользить друг по другу. Их можно представить и как линии, идущие в противоположных направлениях. Можно представить, что микроскопическая трещина бежит вдоль одной линии, превращая её в две. Трещина может быть и макроскопическая. Тогда координаты неизвестно где друг от друг. Можно представить точку, разлетающейся. В общем, она треснула и «сама себя преодолевает».
Края этой трещины или «координаты» могут именоваться воля к смерти и Надежда на бессмертие. Это – уже смысл.
На шкале воли к смерти находятся уныние, слёзы, по мере снижения интенсивности – высыхающие слёзы; на шкале Надежды на бессмертие – деньги, здоровье, молодость и смех, по мере снижения интенсивности, слабая улыбка. Дистанция между смехом и слезами, здоровьем и болезнью – это ощущение. Мы в своих ощущениях сразу погружены в смысл. Ощущение стремится от уныния к радости, от высыхающих слёз к слабой улыбке… Кажется, что самая короткая дистанция между Надеждой на бессмертие и волей к смерти находится в начальной точке, но формы созерцания нас всё время путают, и это может быть и самая длинная дистанция. В любом случае противоположные полюса эмоций находят друг друга с помощью ощущений.
Ощущения лежат в основе восприятия, а синтез полюсов – начало восприятия. Назвать его пассивным синтезом, наверное, можно, но в этом нужно ещё разбираться. Начало восприятия – это схватывание, а не внутреннее чувство, которое есть cogito и пассивно. Если первоначальную синтетическую апперцепцию, которую Кант считал трансцендентальной причиной возможности опыта, считать пассивной причиной восприятия, то основание по которому схватывание разделяется с внутренним чувством исчезает.
Полюса эмоций вытягиваются в линию, стремятся себя преодолеть, а преодолевать им приходится противоположный смысл, и, не являясь чем-то простым, ощущение сразу начинает с собственного анализа. Логика начинает работать с анализа, синтез ей уже дан. Восприятие действительности то совпадает с тем или иным смыслом полюсов, то не совпадает. Накаленность ощущений то усиливается, то ослабевает в соответствии с распределением координат и силой эмоций (темпераментом), примерно поддерживается совпадение ощущений с картиной мира (дискурсом и менталитетом). При движении ощущения в каком-то одном направлении достигается один из эмоциональных полюсов, но мы от собственных ощущений обычно не плачем и не смеёмся. Потому что ни один полюс не достигнут, хотя оба полюса присутствуют во всякое время в любом ощущении. У эмоций есть направление – от смеха к слезам и обратно. Более того, оно дискурсивно определено, хотя эмоции непосредственны. Именно непосредственное Гегель рассматривал, как начало логики. Пассивность эмоционального синтеза, таким образом, оказывается под вопросом. Скорее, активность присуща началу логики. В понятиях Гегель выделяет множество уже положенных, а не самостоятельных моментов, а всё положенное является модусом, мерой, возможным основанием для дедукции, но относится уже к внутреннему чувству, хотя тоже может быть обосновано отдельными эмоциональными полюсами. Они – некая пассивность, – а активна их связь. Если ощущение достигло полюса, мы чувствуем эмоции, поддающиеся оценке, а, если не достигло, то полюс пребывает в свёрнутом (пассивном) состоянии. Оценки – примерная реальность, это колебания восприятия. Ощущения более определённы, чем эти колебания. Это позволяет рассматривать полюса, как мнимые, идеальные величины. Мнимое число, возведённое в квадрат, даёт минус единицу, это – число отрицательное, но уже реальное: ощущения – как раз реальны, «схватывают» мир, являются тождеством с ним, но времени на это не уходит… потому что времени для идеальности полюсов не существует. Идеальное не имеет отношения к чистой материи космосе, но между ним и нею возможны какие-то зеркальные отношения. Тёмный предшественник слишком близко свёл по смыслу ноумены: чистое, идеальное.
Оценки реальности бывают значимей самой реальности, и, если наше ощущение было настолько сильным, что, качнувшись, достигло двух полюсов сразу, то и реальность становится «глиной» для творения чего-то нового.
Эмоциональные полюса являются зеркальным отражением друг друга, протекая в ощущениях, как ток в проводах. Логическое умозаключение со связкой между двух посылок имеет ту же форму, что и эмоциональные полюса со связкой в виде ощущения. И ощущение между двух полюсов, и связка в умозаключении активны, по данным нашего анализа. «Движение, которое возвращается в себе самом», как самодвижение мыслей, тоже имеет структуру эмоций. Наши мысли одновременно – противоположный полюс ощущений – представляют сомнение в ощущениях. Масштаб смысла, который приходит первым, делает здесь новый виток. Сознание младенца вырастает из эмоций, в дальнейшем расширяется в каждой своей мысли, но краями мысли по-прежнему являются эмоции. Они ведут назад к ощущениям, а те снова к мыслям. Если ощущение колеблется, не достигая своих полюсов, их смысл остаётся невыраженным. Мы чувствуем себя, как обычно, можно сказать, и бессмысленно. Но стыд, страх, смех и слёзы – проявление не только эмоций, но и смысла. Слуховые, зрительные и прочие ощущения имеют фон в виде смысла, а самая высокая смысловая определённость находится в точке расщепления координат – в Надежда на бессмертие и воле к смерти. Это – чистый смысл. Он имеет структуру в виде зеркального отражения. Смешиваясь, эти отражения друг друга образует «тошноту» Сартра или «тоску» Фихте, которые следует считать одним и тем же, чтобы не множить сущности, и ощущением.
Простой смысл, который нас интересует, мы теперь можем определить, как активность. Она прячется то под маской Надежды на бессмертие, то под маской воли к смерти, синтезирующих вместе «тоску», которая для нас никак не может быть активным смыслом. «Тоска» – его маска, но она могла бы быть первой операцией восприятия, «пассивным синтезом». Как иллюстрацию к нему, Делёз приводил образы картин художника Френсиса Бэкона, именуя их логикой ощущения. Но в итоге Делёз признал, что ему не удалось найти решение проблем классической философии: «Это сделает уже только не философ».
Простой смысл – не воля к смерти или Надежда на бессмертие, а то и другое вместе. В простом смысле, как бы сказал Гегель, они «низводятся до моментов, ещё различимых, но в то же время снятых». Тоска выражает Надежду на бессмертие и волю к смерти, это – единый знак смешавшихся противоположных смыслов.
Мысли по преимуществу определённы, как и эмоциональные полюса, по крайней мере, стремятся к этому. Смысл – это движение эмоций к своим полюсам и обратно, поэтому он не может быть редуцирован, как мы и наблюдаем это в письме Булгакова жене: «Честное слово». Собственное определение эмоций – движение, потрясение (и остальной синонимический ряд).
Определение какого-то простого смысла, как воли к смерти или Надежды на бессмертие, может быть установлено на какое-то время, пока не качнётся в другую сторону. По идее, простой смысл – это то и другое сразу или то, что в данный момент активно. Как всякий смысл и мнимую величину, простой смысл можно отрицать, по крайней мере, его можно ставить под сомнение вместе с определениями – волей к смерти и Надеждой на бессмертие. Из-за этой мнимости у разных авторов одно и то же по-разному формулируется. Например, то, что я называю простым смыслом, Делёз и Гваттари в «Анти-Эдипе» именуют «желающим производством». Это вполне справедливо: желания – активны. Эмоции – «ощущение интенсивности». Это – тоже активный смысл. «Не то чтобы сами интенсивности были противоположны друг другу и уравновешивались в окрестности какого-то нейтрального состояния. Напротив, они всегда положительны, начиная с интенсивности = 0, которое обозначает тело без органов». Делёз и Гваттари сформировали бы желающим производством и интенсивностью реалистичную точку зрения, если бы не «тело без органов». Оно – тоже мнимость – не существует, не смотря на свидетельство Антонена Арто. Мы остаёмся с Кантом и будем определять понятие простого смысла. Эмоции игнорируют время, но интенсивность этого не делает, ей как раз присуще время. Она, скорее, принадлежит чистой материи, а не идеальности. Если чистая материя и идеальность являются зеркальным отражением друг друга, то по тому же смыслу интенсивность является зеркальным отражением эмоций. В «Мире без времени» я вдруг забываю то, что нельзя забыть, потому что времени не прошло, потом так же внезапно вспоминаю. Эмоции всё-таки игнорируют время, а интенсивность моих ощущений колеблется в соответствии с ним. Противоположные полюса эмоций не бывают друг без друга, но друг друга сменяют во времени, которого для них не существует. Так что у интенсивности может быть «ниша» в отношениях между идеальностью и чистой материей, эмоции, как идеальность, могут возбуждаться только чистой материей.
Они являются средствами самовыражения Нарцисса. Грудной младенец замечает связь, оказываясь в сухих пелёнках вместо мокрых, когда поплачет, начинает использовать средства эмоционального выражения акцентированно. Эмоции – конкретное начало сознания, и первое средство описания всех доступных ощущений. Интенсивность – случайное обстоятельство, почти что-то «внешнее». Это, конечно, – форма созерцания – внешнее. Эмоции отличает от мыслей их скачкообразное изменение, именно интенсивность. Её с полным правом можно считать присущностью эмоций, реагирующих на воздействие чистой материи с необходимой степью активности.
Между полюсами эмоций идёт борьба за то, что чувствовать. Наша культура осуждает эгоистическое поведение, например, и ощущения наделяет знаком от дискурса. Эмоции борются и с дискурсом за свою активность. Смысл, который приходит первым, опять не знает масштабов применения. Не в последнюю очередь, благодаря этому, всё запутано, но слова Ницше, что «инструмент познания не может познать самого себя», поставили бы крест на нашей попытке понять, что такое «я», если бы не этот смысл, который приходит первым… Он позволяет это заявление активно игнорировать, как представляющее здравый смысл. Пусть Нарцисс не может познать себя, способен только слепо отождествиться с «я», но я отождествиться уже не могу с Нарциссом. Познание начинается с этого несовпадения. Зеркальные совпадения позволяют продолжать познавать себя с поправкой на изменение правого на левое. Например, множественная личность Хаббарда, как мы знаем, – драматизация вэйлансов – и возникает на основе жизненного опыта. Опыт обусловлен. Множественная личность со всей очевидностью тоже обусловлена, а зеркально из этого вытекает, что безусловным смыслом обладает что-то противоположное множественной личности, единичное и не пользующееся опытом. Выводы Канта подтверждаются зеркально выводами Хаббрада.
Простой смысл преодолевает тоску, расколов её на бесконечность ощущений. Смысл тоски становится зеркальным и смешивается с самим собой. Материал для восприятия поставляют ощущения. Их бесконечность сводится к пяти чувствам, и простой смысл снова начинает упорядочиваться. Наши чувства – равновесие, осязание, обоняние, слух, зрение – представляют собой более высокий уровень операционной системы, чем ощущения. Кто-то выделяет ещё чувство вкуса, но тогда следует выделить и ощущения на коже, и половые ощущения в отдельные чувства. На самом деле, это – одно и то же осязание, распределенное по всему телу и включающее в себя внутренние ощущения. Оно находится в основании жизненных процессов ещё у червей.
Пять чувств – классическая схема. Шестое чувство, как известно, название интуиции, но, по профессору Савельеву, у нас больше чувств, по крайней мере, органов чувств. Отдельный орган регистрирует прямое ускорение, отдельный орган – угловое ускорение. Скорей всего, профессор прав, но мы остановимся на классической схеме: она возникла не на пустом месте. Прямое и угловое ускорение можно отнести к чувству равновесия. Это, конечно, слабый аргумент против большего количества у нас чувств. равновесие включает в себя вообще все чувства, которые традиционно и не относятся к нему. Если закрыть глаза, например, и встать на одну ногу, это будет понятно в связи со зрением. Стоя на одной ноге с открытыми глазами, легче удерживать равновесие. Также всем известны проблемы с равновесием у пьяных: если два стакана самогона – обезболивающее средство при операциях в полевых условиях, то алкоголь влияет на осязание… Резкая моторика характерна для глухонемых и оглохших. Это тоже проблема равновесия. Если вы не слышали или забыли, как зовут ваших соседей по лестничной клетке, при встрече с ними будет, как будто, вата в ушах, а здороваться всё равно надо, как раз равновесие незаметно и нарушается. Обоняние вообще радикально действует на равновесие. Как вам запах большого количества тухлой рыбы? Ещё есть аллергия на запахи.
Итак, что-то простое сначала расщепилось на Надежду на бессмертие и волю к смерти, вытянулось в постоянное ощущение тоски, потом тоска обрела дискретность, раздробившись на бесконечность ощущений. Тем самым тоска «преодолела» себя, а теперь упорядочивается пятью чувствами и начинает собираться в равновесие, – опять какую-то простую единицу, но уже на новом витке развития. Ощущения и чувства – это начало операционной системы. Кроме равновесия, чувства собирает в некий фокус ещё внимание, и получается, что наши чувства обобщаются дважды Равновесие и внимание обобщает чувства: – это может быть местом встречи Нарцисса, каким он сложился в процессе жизни, и искомого «я».
Если вы смотрите, как пара танцует танго, то, скорей всего, смотрите на одного из партнёров. Я, например, смотрю на танцорку. Мужчина рядом с ней мне только виден. Моё чувство зрения воспринимает его. Если бы я совсем не воспринимал танцора, моё равновесия было бы встревожено. Тем не менее, разделить внимание и восприятие мы можем. Между ними есть «зазор».
К чувству равновесия следует отнести осанку при походке и мимику лица. Они с большими затруднениями контролируются вниманием. Это – не его сфера… Если Нарцисс обретает единство в равновесии и тождестве, то «я», без сомнения, проявляет себя в различениях, но разграничение между Нарциссом и «я» однозначно не проводится. Спутанность будет являться на каждом шагу. Ни в теле и его равновесии, ни в операционной системе нет места, где бы Нарцисс и «я» не присутствовали вместе, как активное и пассивное. Активное «резвится» на пассивном, путая формы активности и пассивности. Пассивное надевает маски активности… Формы созерцания будут путать нас.
Внимание – центр логических операций, точка сборки операционной системы. Рассудок – окружность этой точки, а разум ещё один внешний круг. Окружность и внешний круг – это опять формы созерцания и источник запутанности… но, можно сказать, что рассудок сводит восприятие к окончательному, а разум делает снова бесконечными его различения… Внимание неотделимо от памяти, и память избирательна, как и внимание.
Я помню далеко не всё, что со мной происходило в жизни, только кое-что в памяти засело. Уже сорок лет нет кинотеатра, в котором я в первый раз в жизни посмотрел фильм «Двенадцать стульев». Зачем я помню слова именно этого показа: «Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень!». Я даже помню, что сидел где-то в середине партера… эти слова были не важны для моей жизни. Множество более важных слов я забыл и до сих пор пропускаю мимо ушей, а эти привлекли моё внимание и остались в памяти. Они были бессовестными. Киса Воробьянинов, конечно не девочка, но, в исполнении Сергея Филиппова, и не «шустрый такой мальчишка».
Может, это совесть выбирает, что мне помнить? Я помню, как в том же кинотеатре смотрел фильм с молоденьким Адриано Челентано до 16-ти лет через вентиляционную дырку в крыше кинотеатра бесплатно и совершенно не по праву – был бессовестным. Память бесстрастно фиксирует и мою, и чужую бессовестность. Не сама же память выбирает, что ей помнить?
«Вообще-то нет такой штуки память… это процесс, при котором мозг меняется, происходят изменения в силе синапсов, рост дендридных шипиков и происходят химические изменения, которые усиливают одни нейронные сети в ущерб другим. Эти изменения происходят по всему объему мозга». Кто меняет мозг по всему объёму? Он точно тот, кто нам нужен…
Можно подумать, что внимание выбирает, что мне помнить, а совесть уже сидит в нём, но это будет о Нарциссе. Его сознание не является своей причиной, само может осознаваться, фиксироваться памятью, если привлечено внимание. Сознание Нарцисса – процесс пассивный.
Всё в мышлении запутано. Внимание производит отбор, что следует воспринимать, а сознание уже сидит в нём, но возникло позже внимания, пройдя процесс становления и продолжая проходить… Пусть внимание привлекли ярко накрашенные губы. Оно схватило их, всё, что было рядом, тоже схвачено. Сил у того, кто это сделал, немеряно. По идее, схватывается всё, что перед глазами. Прохожие идут мимо, я воспринимаю их зрением, которое связано с чувством равновесия, но фон эмоций слишком слабенький, процесс не достигает внимания и памяти. Шёл бы навстречу кто-нибудь из рода динозавров… Внимание усиливает восприятие и откладывает его в памяти.
Недавно я вспомнил, как отец учил меня завязывать шнурки. Что-то в памяти щёлкнуло. Даже свет лампочки загорелся под потолком в кухне в моём воображении и рассеивается немного тускло. Я сижу на полу и на пределе способностей сопоставляю шнурки, сначала мне в голову пришло, что я буду сам их завязывать. Совершенно не зная, как это делается, я на шнурках навязываю узелки, но сильно не затягиваю. Мне уже кажется, что и бантики не нужны. Навязать побольше узелков, чтобы шнурки покороче стали, только сильно не затягивать. Это какое-то недоразумение, что узелки всегда затянуты…
Мать обычно проклинает узелки, но сейчас мне не мешает, только моё обратила внимание, что ботинки надо то снимать, то надевать… Я не понял замечания. Она развернула мысль: каждый раз обуваясь и разуваясь, нужно навязывать много узелков, а за бантик потянул, и шнурок развязался. Здесь был возможен длинный мысленный ход, но я спорить не стал. «Научусь завязывать бантики, а потом буду завязывать по-своему…». К нашему разговору подключился отец, показал мне, как сложить два бантика, ловко завернул их друг за друга и связал вместе… Сложенный вдвое шнурок держался в моих пальцах уверенно, но второй надо было защипывать уже пальцами одной руки. Они делались деревянными. Я всё же его защипывал, но после этого не мог шевелить шнурками. Неуклюжесть в пальцах только нарастала, и, когда я пытался шевелить ими, заводя бантики друг за друга, бантики рассыпались. Тогда отец показал более простой способ: обвязал сложенный бантик не бантиком, а просто шнурком и просунул в узелок. второй бантик тоже получался, если не вытягивать шнурок до конца. Я завязываю так шнурки до сих пор…
Детальность стёртых воспоминаний – это различение.
Ницше выходит из себя из-за памяти: «В отношении памяти кроется наиболее сильное искушение допустить существование души. Пережитое продолжает жить в памяти, против того, что оно «появляется» я ничего не могу поделать, воля тут ни при чём. Случается нечто, что я осознаю, затем появляется нечто сходное – кто его вызывает? кто его будит?».
На самом деле, память ещё более загадочное явление. Различение, а – по Ницше – и отождествление, смотрят в ней в глаза друг другу, но это ещё не всё.
Как быть с тем, что два дня назад я вспомнил старого приятеля, которого не видели много лет, а сегодня вдруг встретил его на улице? Что я вспомнил два дня назад – прошлое или будущее?
Знаменитый психолог А.Р. Луриа написал книгу о С. Д. Шерешевском, память которого исследовал всю жизнь. Он так и не смог измерить её объём: ни время хранения информации, ни количество запоминаемого не имели ограничений. Однажды Шерешевский с первого предъявления запомнил длинную строфу «Божественной комедии» на незнакомом ему итальянском языке, потом легко повторил её через 15 лет при неожиданной проверке. Незнакомый язык это даже не смысл. Это – просто звуки. Музыковед И.И. Соллертинский тоже мог пролистать книгу и безошибочно воспроизвести текст любой страницы. Он не читал книгу, страницы которой воспроизводил, только просматривал. Память Шерешевского и Соллертинского различала независимо от объёма информации и времени. Для них всё было «здесь и сейчас». Любопытно, что Шерешевский однажды ошибся. Мысленно располагая многочисленные предметы, которые нужно было запомнить, на знакомой московской улице, он один из них поставил в тень и не заметил. Его подвело внимание.
Структура памяти, возможно, покоится на свойстве эмоций находиться вне времени. Это станет понятно, если вспомнить детское отношение к чему-то, что есть в памяти. Из того отношения мы уже выросли. Тем не менее, оно хранятся, каким было, хоть и сопровождается взрослым «комментарием» … Есть техника переписывания воспоминаний – рефрейминг: нужно вообразить себе другое воспоминание и вести себя в нём иначе. «Новое воспоминание» смешается с тем, которое было, и как-то разрядит болезненные эмоции в реальном воспоминании, но также действует и моё отношение взрослого, «разряжающее» детские эмоции. Эта активность воображения заживляет травму в сознании, но новое отношение к прошлым событиям не в силах стереть того, что было. Чулки на мне больше не болят, но след события хранится в памяти. По сути, он является памятью, доступен мне наряду с новым, взрослым отношением.
Как там Ницше говорит: в отношении памяти – самый большой соблазн допустить существование души?
Когда что-то безбольно ткнёт, голова сама поворачивается в нужную сторону. Чей-то взгляд направлен на вас и попадёт в поле внимания при любом количестве объектов или субъектов. Я опять различаю… Другой человек тоже обернётся, возбудив отпечаток в моей памяти. Я всего-то заметил, что волосы у него растут на макушке, как у меня росли когда-то… возбудил по памяти чувство к самому себе. Это чувство коснулось его и заставило обернуться. Значит, я тоже различал чужие чувства, поводом для которых являлся, пассивно подвергаясь воздействию, но поворачивался и проявлял неосознанную активность по отношению к этому воздействию… Различение чужого внимания, с моей стороны, уже не пассивность, как и не пассивность со стороны прохожего, который обернулся на мои мысли, но это у нас не Нарцисс, такой проворный. Ему показывай – не заметит. Мои эмоции через воздух достигли головы человека, он обернулся, благодаря какому-то внутреннему осязанию. Когда чья-то память касалась меня, я тоже различал, будто, безбольный толчок. Был он внешним или внутренним вообще не имеет значения: формы созерцания отступают, нарушая ряды, если мы имеем отсутствие внешнего воздействия, как внутреннее осязание. Это – порыв ветерка, короткая вспышка в голове, толчок извне-внутрь, а, может быть, изнутри-наружу… «Самодвижение – это движение, которое возвращается в себе самом», – так Гегель определял интуицию. Мои воспоминания о волосах на моей макушке оказываются не однонаправленными. Они идут сразу в обе стороны: отражаются от макушки другого человека и возвращаются в моё внимание в виде его оборачивания. Они совершают работу, если заставляют обернуться, по мнению физиков, только сила совершает работу… Тёмный предшественник уже всё определил буквально: «амбивалентность – сила, идущая в двух направлениях сразу». Пространство, преодолеваемое амбивалентной силой, обладает неограниченным размером. Это кажется немыслимым для ослабших, давно выветрившихся и забытых эмоций, но что для них значит забытых, если они игнорируют время?
Скрытое тоже отменяется эмоциями, потому что срытое – форма созерцания.
Если не замыкаться на дискурсивных установках, что ничего такого не может быть и случайно показалось, – то мысли, направленные на нас, могут быть прочитаны. Нужно только доверять своему воображению. Это именно оно, а не галлюцинации. Чаще всего читается агрессия, её проецируют на отсутствующих рядом людей встречные прохожие, но определённо кажется, что человек хочет дать вам в морду. Вы различаете его эмоциональный фон. Но, на самом деле, это – не вам. Для вас это бесплатное приключение – смотреть в бешеные белки – или почти бесплатное. Мне в жизни всего два раза не повезло с такими гражданами, а встречаются они каждый день. Телепатические связи могут быть и приятными, и вообще любыми. Однажды я ощутил внимание собаки. Она трусила навстречу по дороге и пыталась узнать во мне хозяина.
Телепатические связи сопровождаются чтением мыслей, но мысли окружающих, как правило, скучны. Нашим «я» скучно живётся… На пляже я замечаю мокрые, холодные трусы на проходящем по бережку мимо меня человеке, прилипшие и сидящие на нём, как что-то лишнее. Мне нет дела до его трусов и до него самого, но я, зачем-то, поднял голову от песка, сонно смотрю на него: что он не в формате, осознаю с опозданием. Мы – на пляже нудистов. Но человек в трусах – не примечательный факт – здесь регулярно возникают текстильщики. Я сам загораю, как положено… Через какое-то время соседом тоже загорает «как положено». Он оказался им, я, зачем-то, и это заметил, в очередной раз поднял голову… Теперь я так думаю, что свои печальные мысли он направлял на меня: храбрости набирался, себя со мной сравнивал, к своим мокрым трусам относился с омерзением… Я не стремился прочесть его мысли: моя воля, как говорит Ницше, здесь ни при чём. Кажется, я мимоходом фантазирую о человеке. Мысли меня думают.
Я не один такой интуитивный… По улице медленно идёт девушка, сильно раздетая по причине жары. Я иду быстрей и нагоняю. Её тонкие ноги показались мне уже лишенными гладкости, в голову приходит мысль о целлюлите… Девушка оборачивает ко мне лицо. Я вижу доверчивый взгляд, но прежде всего в глаза бросается твёрдая серьга в ноздре. Любое выражение в глазах, как и выражение интонации – свидетельство какой-то лжи. Откуда она взялась по отношению ко мне, неслышно нагоняющему девушку? Когда замечаешь зубы вместо губ, кольца вместо пальцев или хотя бы ключицы под кожей, – люди что-то различили и обороняются, иногда это удивляет меня до глубины души. Я совсем ничего не думал о них, но когда замечаю оборону, я уже думаю, что они думают обо мне как о какой-то опасности. До сознания девушки различение тоже могло и не дойти. Мысли её думают, но серьга, интимно связанная с телом, излучила в меня свойство своей твёрдости. Не сама же серьга это сделала?! Девушка, скорей всего, ничего не знает. Что-то просто и естественно, тем не менее, отражает мою некомплиментарную мысль помимо её сознания… Никакая это не пассивность. Некая активность действует против меня внешним предметом – серьгой, – замечает мою мысль спиной девушки, филигранно ориентируется в окружающей обстановке… Шило в мешке прокололось: какой-то простой смысл проявляет себя в интуиции, ни слова не говоря.
Ещё пара примеров интуиции. По дорожке большого, заброшенного парка идёт молоденькая девушка. Мы издалека оказались в поле зрения друг друга: опять то-то безбольно толкнуло меня, отлетело в траву, облегчённо, беззвучно смеясь. Я немедленно становлюсь интуитивным, попадаю в ближайшее будущее: мы разойдёмся, как прохожие. Действительно, нас это ждёт. Я начинаю понимать, что девушка тоже различила будущее… Когда мы сблизились, я вообще не смотрю на неё, чтобы ей спокойней было, но мысли скользят в моей голове. В области её живота расширяется полость… Я влетаю туда головой, не задевая края этой норы плечами. Мне известно, что такой полости в теле девушки нет, это – не мои мысли. Кажется, она представляет, как можно быть изнасилованной… Другая девушка вообще шла со своим парнем по улице. Мне понравился контраст её симпатичного худого лица и широких бёдер. Она невольно улыбнулась… могла не сознавать мыслей, которые её думают, но различила комплементарное отношение к себе… Основная функция сознания – опережающее отражение действительности – хорошо коррелирует с интуицией. Именно она и является опережающим отражением действительности.
Гениальный нейрофизиолог Чарльз Скотт Шеллингтон заявил: «Мы не имеем ни малейшего права утверждать, что мышление является функцией мозга». Ефим Либерман – российский биофизик – осветил этот вопрос уже более развёрнуто: «Высокочастотный гиперзвук возникает в клетке, потому что электроны колеблются и задевают за стенки мембраны. В нейроне есть вычисляющая среда. Это – цитоскелет – вычисляющая трёхмерная решётка, через которую идёт звук. Нельзя ничего другого использовать, кроме звука. Если электромагнитные волны использовать, то с размерами порядка молекулярных, они разрушают молекулы. Внутри клетки – жидкая среда, скорость распространения звука триста метров в секунду. Клетку он проходит мгновенно… Мозг работает внутри нейронов на шумовом компьютере с гиперзвуком… в страшном грохоте и шуме… Ничего похожего в личном самосознании нет. Личное самосознание – это не программа, как думает примитивная физиология, это конструкция, про которую наука пока не знает ничего! В мозгу нет места для музыки, для цветного зрения… В нейронном компьютере считать можно, он такой аналоговый, в грохоте работающий, но для личного самосознания там места нет».
Это значит, что в мозгу нет места для воображения: звуки – внутри и снаружи. Внешнее и внутреннее наполнено единым Голосом Бытия, но, говоря о внешнем и внутреннем, мы себя подталкиваем в тупик форм созерцания.
Трёхмерное существо на двухмерной плоскости резвится без правил: появляется и исчезает, где хочет, перемещаясь в третьем измерении, а на плоскости имеет подобие с собой… Бог тоже сотворил человека «по своему образу и подобию». «Без правил» – это как раз свойство эмоций и чистая активность.
В нашем четырёхмерном измерении место для воображения есть только «снаружи» – это как-то неправильно. Деформация воображением времени, как трансцендентальной идеальности, вообще ставит в тупик. В «Мире без времени» мне открылось множество мысленных ходов и исчезло за секунду. Я не мог простоять в самом бойком месте магазина, на входе дольше, но потом вспоминал мысленные ходы, будто, пятясь назад. Эти воспоминания длились много лет, но есть смысл не считать, что они, как более поздние выдумки, возникли. Без них у истории нет начала, а теперь через сотни страниц я могу прийти к моменту, где ноги приросли к полу. Тем не менее, времени, в течение которого я воспринимал свои мысленные ходы, стоя в дверях, не было. Меня даже толкнуть не успели.
Мы оказываемся в ситуациях, где речь нельзя вести о времени и нельзя о пространстве. Девочка переместилась на косогор, минуя пространственные моменты: стенку вагона, скорость поезда и прочее, и это – не единственный случай. Олег Горбовский описал ещё один: местный житель шёл из гостей вдоль забора из колючей проволоки… Таких заборов там было много. Он выпил в гостях и поглощено перебирал в памяти детали разговора, а забор всё не кончался, наконец устав, пошёл к домику в стороне. Это оказалось помещением охраны. Там его допросили: как он попал на территории охраняемой зоны? Он, разумеется, не знал… Периметр осмотрели, повреждений не было. Дядьку отпустили, но случай попал в анналы…
Карлос Кастанеда тоже пишет, что Дон Хуан толчком в спину переместил его на другой конец города. «Психические явления не ограничиваются пространством и временем, хотя бы частично не подчиняются физическим законам, существует надперсональный слой психики». (К. Г. Юнг).
У нас есть все основания, чтобы выдвинуть гипотезу. Какой-то простой смысл имеет больше измерений, чем четыре, хотя бы, на одно. Из-за этого все наши четыре измерения ведут себя причудливо. Вроде бы я всегда пребываю рядом со своей памятью, но вдруг это откровенно начинает плыть… уже слово диафрагма прилетело ко мне издалека. Мы не можем созерцать внутри себя пространство за исключением случаев работы воображения… «Другой» или «внешний» – структура восприятия мира, – «другим» для Нарцисса может быть и его воображение. В нашем сознании нет ничего, кроме проекций реальности. Если сознание содержит в себе ещё и проекции «я», вроде воображения, тогда Нарцисс является медиумом между «я» и реальностью.
Собственная форма мышления «я» – интуиция – совпадает с истиной, но в истине – вожделение Нарцисса, а не «я». Свойство идей разума – быть бесконечными – обосновано тоже не Нарциссом. Он конечен и ограничен, а его сознание собирается жить вечно. Ничто не может объяснить пристрастие Нарцисса самого по себе и к бесконечным идеям. Мы может находить в сознании проекции «я», у которого больше измерений. «Я» не вмещается в наши измерения, вообще преодолевает всё, что доступно Нарциссу. Для Нарцисса истина конкретна. Это – зеркальное отражение её всеобщности для «я».
Где проходили процессы, позволяющие безусловным рефлексам игнорировать время и не изменяться, если в утробе матери плод изменялся каждый день? Четырёхмерная реальность не знает таких процессов. В ней всё течёт, и господствует изменение вместе со временем.
Открытия на основе понятий тоже нельзя рассматривать только как что-то, принадлежащее Нарциссу и четырём измерениям. Они имеют «внешнее» бытие для разума, являются новостью и для него. Нарцисс наталкивается на них случайно.
Опыт играет роль в сознании, но мы должны задаться вопросом: зачем он нужен, если у нас есть интуиция? Дело в том, что интуиция – не у нас, а у «я», – но время от времени сливается с Нарциссом в общую духовность… Созерцая себя взрослым в клетчатой рубахе, я вылез из автобуса, которые тогда ходили. Он – мой опыт. Вообще же, интуиция противопоставлена опыту.
Мышление систематизирует опыт всю жизнь вместе с памятью. На основе опыта организуется внимание. Опыт включается в работу внимания и её направляет, но принципиальный выбор, на чём концентрируется внимание, какой именно опыт накапливается, делается при выборе ведущей координаты не Нарциссом. Этот выбор делается о том, каким будет Нарцисс, и возникает раньше опыта. Сначала дети интонационно ориентируются в смысле. Интонация служит «входными цепями» в опыт. Она – очевидно – что-то «внешнее», в то же время может осмысливаться «внутри». Эта откровенная путаница, возникающая в пространственных локализациях, подобна той, какую делает третье измерение с плоскостью.
Опыт фиксируется на всех уровнях операционной системы, начиная с ощущений, но интуиция остаётся вне этой сферы, опять не «вмещается» и игнорирует опыт. Принцип отбрасывания части восприятия прослеживается потом неукоснительно. Чувства обобщают ощущения, отбрасывая какую-то их часть, внимание отбрасывает что-то, обобщая чувства, рассудок только частично обобщает опыт внимания, а разум частично опыт рассудка. Он выдвигает идеи, прокладывая направления для практики, при этом вынужден многое игнорировать, не вмещать в себя «детали». В итоге систематических обобщений, разум приходит к идее Бога, своем последнему обобщению, и оказывается покинувшим почву опыта. Отбрасывание опыта дошло до логической точки: идея Бога, как и интуиция, игнорирует опыт. Таким образом, операционная система является её зеркальным отражением.
Эмоции могут «предвидеть» будущее, ибо после смеха будут слёзы… По сравнению с ними ощущения, низведённые до простого отражения, есть снижение опережающего отражения действительности. Далее отражение стремится стать только искажением реальности, и, как самое последнее обобщение, Бог изгоняет из сферы мысли всё конкретное… Ещё задолго до самой идеи Бога операционная система сознания видит то, что содержится только в идеях разума, а они навязаны, чаще всего, чужим опытом: идея Бога, с одной стороны, выглядит, как инерция предыдущих обобщений, а с другой, навязывает себя по цепочке вниз. Рассудок, внимание и чувства соотносят себя с чужим опытом – дискурсом. А собственный опыт ощущений отходит в тень. Дискурс предоставляет сознанию возможность симулировать какую-то коллективную природу, как у эмоций, такую природу имеющих, два полюса существуют только вместе, но разница состоит в том, что за пределами опыта наше сознание не может ничего, а интуиция может всё. Свойство интуиции – опережающее отражение действительности – тем не менее, сохраняется в сознании.
Мы видим, что в операционной системе сознания что-то зеркально отражается, меняя своё правое на левое. Она, таким образом, демонстрирует собственную двойственность и обусловленность, причину возникновения из чего-то, что мы называем простым смыслом. Сознание, с одной стороны, накапливает опыт, с другой стороны, его игнорирует. Наша любимая практика – рассуждать, не опираясь на опыт, априорно извлекать смысл из себя. «Разум видит только то, что сам создаёт по собственному плану, что он с принципами своих суждений должен идти впереди и заставлять природу отвечать на свои вопросы». (Кант). Открыв априорность разума, Кант оставил акцент на непознаваемой «вещи в себе». «Я» сменяется пассивностью Нарцисса.
На практике внутренний монолог в сознании не умолкает никогда, с его помощью старый опыт закрывает нас от новой информации в зоне доступа. Нельзя принять её просто к сведению и относиться, хотя бы, нейтрально, если она не совпадает с прошлыми представлениями и неприменима в рамках этих представлений. Внутреннее чувство как-то её вычёркивает. В данном случае, оно узурпирует активность. Всегда отношение к новой информации будет, чаще всего, негативное, или с сомнением. Личность закрывает себя, вычёркивает такую информацию, оставляет для себя совершенно внешней и бесполезной. Старый опыт препятствует актуальному восприятию. Мы собираем это восприятие из известных уже представлений. На самом деле, старый опыт просто поглощает внимание, представляет собой трафаретный подход к делу, экономит силы на мыслительном процессе, избавляет нас от необходимости «изменять память по всему объёму мозга». Так что интуиция отрицает опыт по праву. Он представляет априорность, которая похожа на неё, как обезьяна на Господа Бога.
В отношении к операционной системе «априорность» – важнейшее понятие Канта, – но меняет смысл на противоположный по законам языка.
«Нейроны от человека, пересаженные жабе, приживутся». (Савельев). Смысл нейронов – связь. Они – эмпирическая реальность, универсальность и простота, если приживаются, пересаженные жабе. Гравитация – тоже эмпирическая реальность. Она является чем-то неизменным, непрерывно действующим и универсальным, как нейроны. А. Эйнштейн доказал, что гравитация влияет на пространство и время. Он только сомневался, что гравитационные волны когда-нибудь будут обнаружены. В этом сомнении есть определённое совпадение с «я», никак не обнаруживаемым и тоже влияющим на пространство и время.
Точно известно, что интуиция принадлежит лимбической части мозга вместе с доминантами. Они и интуиция имеют общую локализацию. Это очень удобно, всё в одном месте, интуиция берёт шефство над доминантами…
Время, которое существует для дискретностей, отменимо для «я», а, если времени нет, то какая смерть? Знание о бессмертии, которым обладает «я», превращается в смертном теле в полузнание Нарцисса – в Надежду на бессмертие. Надежда на бессмертие не выводится из жалости Нарцисса к себе, ибо жалость к себе – это уже какая-то «универсальная» пассивность.
«Я» просвечивает сквозь нашу видимость, как неизменное. Видимость меняется с течением времени, а «я» – нет. Зачем он существует сам для себя, если ничего для него не изменяется? Этот вопрос не имеет смысла, потому что ставится в наших пространственно-временных координатах.
Между Нарциссом и «я» есть противоречие: в «Мире без времени» я откусил язык, раскрошил зубы… порвал диафрагму. Ещё лёгкие провалились в живот. Наблюдается разрушение Нарцисса. Всё это может быть связано с несовпадением измерений. Если ноль времени считать измерением, то «я» оперирует более, чем в четырёх измерениях. Это – не отмена измерений, в которых время течёт, как не является отменой для высоты длинна или ширина. Измерения времени могут быть весьма разнообразны. Что мы знаем о чистой материи? Может быть, в том числе, и будущее раньше прошлого. Мы, может быть, даже имеем с ним дело в качестве опережающего отражения действительности.
Более распространённым примером несовпадения измерений могут быть мифы. Это тоже – Слово, но не Логос. Миф соотносим с «тенью», комплексами, анимой или анимусом, коллективным архетипами. Миф, как Слово, не обоснован ничем, как волшебное начало мира, олицетворяет собой ложь единого Голоса Бытия – какие-то враки. Это – синоним бесконечности, какой-то изначальный образ, который сознание стремится воплотить, чтобы добиться соответствия мира внешнего миру внутреннему. «Каждое новое поколение расставляет в мифе свои акценты: самые естественные цели – есть, любить, спать, умирать – становятся бесконечными, церемонией и ритуалом». (Делёз). Миф – неизменен, тем не менее; движется и развивается фантазия о нём (воображение). В четыре измерения, в которых оперирует разум, всё это не вписывается. Враки Мифа пытаются выразить суть без кажимости, либо, наоборот, выражают кажимость без сути. Они имеет бытие, как возможность, или не имеют, но всегда тесно связаны с доверием. Всё это совпадает с представлениями о «я».
Доверие маленького ребёнка, видимо, является первой готовностью к встрече с «я». Доверие Нарцисса имеет коллективный смысл, страх, наоборот, индивидуален, но становится коллективной, социальной установкой… Это – какая-то зеркальная перемена. Когда в конечном итоге доверие заменяется своим зеркальным отражением, активность оказывается у подозрительности: разум, ум и опыт превращаются в инграммный банк… Как это ни странно, интернет имеет прекрасную возможность его активизировать. Он формирует предложения в соответствии с запросами, и заявленные интересы укрепляют «структуру восприятия мира» у пользователя. На практике она так не работает, а размывается «другими» случайным образом.
В исполнении бесконечных ритуалов, в которых миф себя реализует, присутствует некое наблюдение за собой. Например, припоминая молодость, Дина Рубина пишет о себе: «двадцатилетняя кобыла». Такое отстранение свидетельствует, что у наблюдателя нет пола. Я тоже припоминаю себя молодым, и, если отвлечься от содержания воспоминаний, – это будет некая прямая линия, обладающая энергией и способная наделать глупостей своей прямолинейностью. Только дискурс сбивает её с толку и заставляет замирать. Вроде бы и от дискурса наблюдатель не отличается, но, «очнувшись», вдруг созерцает даже собственный пол как что-то постороннее… «Наблюдатель» – это проявление «я», пассивным опять оказывается Нарцисс. «Я» не только не учитывает его дискурс, но и пол. Миф преследует, как цель, воплощение в пространстве и времени.
С. Савельев сообщает о морфологическом разнообразии структур мозга, которые делают расовую и половую идентичность иллюзорными понятиями, но тоже только для мифа. Он воплощается, как волшебное начало мира. Миф прикасается к миру Нарцисса осторожно, ибо другие измерения, которые у него есть, могут нанести вред Нарциссу. Но после этого Нарциссу в его пассивной позиции достаётся какая-то активная роль. Эту проблему «я» должно как-то решать, ибо не ради жалости Нарцисса пребывает, чтобы только и делать, что преследовать цели Нарцисса.
В нашем сознании интуиция – пассажир без места. Сознание говорит «стоп» интуитивным решениям. Они возникают без обдумывания, а так дела не делаются, ибо сознание желает «обсасывать» свои решения, проверяя в них тождество. Интуиция обладает безусловностью, может с сознанием не считаться. Подозревать наше сознание в способности ей противостоять – не приходится, тем более, что интуиция и не пользуется сознанием, как мы видели на примере девушки с серьгой… И вот люди играют в рулетку. Нужно поставить на номер раньше, чем он выпадет, и Нарцисс, о котором интуиция, вроде бы, заботится, если берёт под «шефство» доминанты, будет в шоколаде. Это занятие для интуиции с её опережающим отражением действительности не составило бы труда. И всё-таки парадокс! Игроки ставят на счастливый номер, но потом, почему-то, снимают свои фишки с него, а все остальные оставляют… Ставка была сделана случайно. Съём уже не случаен. Почему интуиция действует против своего Нарцисса? Мне не раз приходилось наблюдать, как увешанные золотом люди «жалеют» фишки на счастливых номерах и, не глядя, рассыпают на всех остальных… Я и сам так делал. Будто, гипнотическое эхо пронзает все сферы тела глубже и глубже. Рука тянется и снимает фишку. В это время сознание чем-то властно отодвинуто от вмешательства в моторику. Если представить себе, что оно «вставит слово», то почувствует себя, будто, обрезавшимся острой бритвой или ошпаренным кипятком. Оно этого и не делает. Ниже уровня сознания действуют в этот момент очень сильные эмоции, оно лишь – свидетель и «обвиняемый» в своих неудачах. Почему интуиция действуют против своего Нарцисса и отторгает счастливую случайность вопреки его однозначным интересам?
На дамочку никто бы не взглянул. Все расставляли свои фишки и поглощено следили за игрой, выпал 22-ой номер, но она укусила кулачок и горько воскликнула, только что сняла фишку с этого номера… Все и вспомнили, как она дёргала руками. Тоже самое проделал золотистый парень, сдвинув сторублёвую фишку на каре. Номер, с которого он сдвинул, выпал… выигрыш «разбавился» в четыре раза. Почему интуицией расценивается счастливый номер, как опасность? Если фишка поставлена правильно, она об этом знает, сознание, конечно же, не знает…, но у Нарцисса в зобу дыханье спёрло. Шарик может катиться долго: заботясь о дыхании Нарцисса, интуиция снимает фишку. После такой «заботы» Нарцисс дышит нормально, но, конечно же, психует, проигрывая там, где выигрывал. Эмоциональный фон повышается. Видимо, «я» тоже выходит поиграть. «Я» нужны эмоции и, видимо, годятся плохие. Это – зеркальность какая-то с Нарциссом, которому нужны хорошие. Эмоции во время игры привлекают «я». После того, как «я» накатит, бедненький Нарцисс не может дышать…Он, конечно, не умрёт от удушья, пока катится шарик: кому, как не интуиции, знать об этом, тем не менее…
Нарцисс – сложноорганизованный объект, «я» – прямая линия, которая его разрушает… Мне было трудно дышать и, когда я вылезал из автобуса в своём видении в детстве. Проблема с дыханием – какой-то признак встречи Нарцисса и «я» …
Номер в рулетке – олицетворённая случайность. Получается, что «я» и случайность имеют одинаковую «внешнюю» природу. Они могут не дышать, но Нарцисс не может. Интуиции важно, чтобы тело не потерпело ущерба. В то же время она – часть «я» – не Нарцисс решает, что эта часть будет делать… Чтобы Нарцисс «вкурился» в удачу, а потом стал психовать, случайность сначала за него. Однажды я наблюдал, как удача гналась за новичком в казино. Он ставил на номер, тот выпадал, но при следующем вращении рулетки. Его фишки стояли уже в другом месте…
Интуиция – за нас, вернее, за наше тело. Она – связующее звено между Нарциссом и «я», который иногда участвует в жизни Нарцисса. О таком участии может свидетельствовать феноменальная памяти Шерешевского, которая может быть понята, как прямая активность «я», игнорирующего время. Отличной памятью обладали Александр Македонский и Иосиф Сталин, их «я» тоже не сидел без дела, участвовал в их жизни.
Если при игре в рулетку для «я» будущее, как настоящее, то время опять не имеет значения. Если девочка переместилась из вагона на косогор, то и пространство не имеет значения. Ещё одной самой очевидной связью «я» и Нарцисса, кроме интуиции и мифа, является воображение. Оно активно по отношению к пространству и времени, лежит в основе внутреннего чувства, которое представляет нам нас самих, как «я», в отличие от интуиции более «демократична» и доступна Нарциссу. В фантазии Нарцисс получает доступ к безупречной логике, но, возможно, воспринимает её, как фантазию, и соответственно относится… Мы слепы от тьмы или света перед мысленным взором, но граница света и тьмы позволяет различать. Фантазия, как раз, находится в этой пограничной зоне.
Самый главный интерес Нарцисса сосредоточен в нём самом. Его различение касается его внутренних состояний, которые разыгрываются, освещаются и затемняются случайностью. Ей не обязательно отключать способность различение у Нарцисса целиком, достаточно понижать или повышать её уровень. Согласно Хаббарду, это и делает инграммный банк: «какие рестимуляторы встретятся – это вопрос случая».
Представляя свои мести обидчикам, Нарцисс тренирует своё будущее поведение, а «я» знакомится с убожеством своего Нарцисса. Божество смотрит на своё убожество. В фантазии Нарцисс «активен».
Где он соблазнится и своими руками соберёт неприятности? «Я» ничего не делает своими руками.
Тело может быть молодым или старым. Душа в нём зависит от эмоций, а стоит за ними «я», всё прекрасным образом различая в метаболическом вихре и нейронных связях, толкает Нарцисс в эмоции за рациональные рамки. Нарцисс толкает сиюминутные эмоции в рациональные рамки. Эта «пассивность» должна принадлежать Нарциссу, но возможность активности в любом направлении есть у «я».
Описывая эмоциональные игры Нарцисса, описываешь саму жизнь, а стоять за ними может «я».
Пьянство после трудового будня возвращает эмоции в исходное состояние, и преодоление последствий контроля нервов «воспевается» Нарциссами конгруэнтно. Выраженный смысл – ложь, но пьянствующие личности заражают окружающих некой первозданной природой эмоций. Коллективной природа эмоций приводит к возникновению идей, которые становятся объективной силой. Их разделяют миллионы, как акт своего сотворчества, возникает нерушимое непрерывное единство на какое-то время.
Можно сказать, что эмоции сами напрашиваются на дискурс, если действуют таким образом. Правда, в готовом виде дискурсивное различение лишено становления, но над условными, общественно полезными «идеями» думать и не надо. Эмоции упрощают всё и используют, как один ответ на все вопросы. Мы кушаем и говорим: «вкусно», но «вкусно» – и кремовый торт, и жареное мясо. От мяса и крема ощущения разные – мы их отождествляем в одном слове. Жжение в ране определяем, как «больно», но «больно» – лишь выражение шкалы, а не сами «градусы». Упрощение эмоций на словах ложится, как отсвет на ощущения… Мышление вообще может протекать на уровне: «яблоки – это черви». Можно мыслить поражение, как победу, затеять ремонт в квартире и растянуть на всю жизнь. Если отождествление господствует в картине мира, то может оказаться и суррогатом различения. Но на основании различения, имевшего процесс становления, мы сами знаем, что хорошо, а что плохо. Тут у нас есть активность, которая может достаться сознанию… Вообще, притворство эмоций простенькими – великолепный для них ход. Они управляют сознанием незаметно. Оно выглядит для себя более сложной компонентой, чем какие-то простые эмоции. За этим может скрываться управление сознанием, не вызывая у него подозрений. Все результаты экспериментов с сознанием, могут быть списаны на промахи самого сознания.
Один человек считает, что в комнате душно и нужно открыть окно, другой тоже считает, что в комнате душно, но окно открывать нельзя: «Мы простудимся». В этих «переговорах» можно добиться результата, только приведя эмоции к общему знаменателю. Это будет какой-нибудь дискурс… Он полон обобщающих упрощений: «Водка – яд, сберкасса – друг».
Смеховая культура вообще призвана манипулировать эмоциями и всё упрощать. Манипулирование эмоциями бросается в глаза и в дискурсе, пассивная роль сознания по отношению к нему – свидетельство того, что общество перехватило роль «я».
Сознание стремится поддерживать своё общение с окружающим миром. Его цель – некий единый смысл, – и дискурс выглядит главным в жизни. За этим стоит бытие какого-то вечного смысла, сохраняющего себя при смене дискурсов, как логика. Это именно связь. Юные мальчики и девочки, не смотря на эмоциональную конкуренцию, всегда готовы поддерживать успехи друг друга в области выраженного смысла. Их импровизации почти не отличаются от рудиментарных, но встречаются с полным энтузиазмом друг другом. Это – свидетельство некой коллективной природы всех индивидов. Накопление опыта, сведённого к единству смысла, не знает правил, по сути, как эмоции. В. Маканин приводит историю, в которой знакомятся мужчина и женщина. Они ищут спутников жизни, и супружеская пара пригласила их к себе в гости. По их мнению, мужчина и женщина идеально подходят друг другу, у них похожие привычки и интересы. Пара решила, что мужчина и женщина немедленно влюбятся друг в друга. Мужчина и женщина пришли в гости, но в дальнейшем вопросов о себе не понимали. Маканин, кажется, сам рассчитывал на радость мужчины и женщины по поводу своей одинаковости, но любовь – это различение, толчок извне-внутрь… Всё могло быть ещё запутанней. Мужчина и женщина различили свою одинаковость, но не любили сами себя. Каждому из них был нужен кто-то «другой».
В молодости мы выбирает представления по вкусу. Эти представления поддерживают нашу важность, как определённость, позволяют понимать мир, отсекают от действительности всё лишнее. Некоторое время картина мира выглядит стройной, но такой она остаётся до первого столкновения с практикой. Как только жизнь приносит опыт, возникают нестыковки, они добираются до самого верха: и бог создаёт дьявола! Можно сказать, что после этого обладатель разума чувствует себя в тупике. Именно отсюда возникают «непарадные движения не познавшей души» и «драмы сарказма»: «Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет…».
Если Чацкий благополучно справился с тупиком: «Карету мне! Карету!», – то для юного Вертера тупик закончился самоубийством… Так же остро напоролась на свои интеллектуальные схемы французская революция: свобода, равенство, братство, добродетель, богиня разума… и гильотина, упорядочивающая мир. Представления проистекают из способности к обучению, но есть и хорошая новость. Ей противостоит способность к самообучению. Можно обратиться к своему личному опыту, который оттеснялся обучением. Внимание что-то замечало, сознание – нет, но возможность другого анализа ситуаций всё равно копилась в памяти. Эти впечатления оставались в тени, мы продолжали думать, как были обучены. В конце концов, устав от повторения одних и тех же ошибок, мы увеличили и другие свои мысли под микроскопом внимания… Привычные суждения дрогнули. Они сначала встали на дыбы, потому что представляли собой понятия и оценки, наделённые безусловностью, но, по капле выжимая из себя конформизм по отношению к чужому опыту, мы провели инвентаризацию своих взглядов и преодолели сопротивление старых воззрений.
В нашем сознании начинает развиваться структура, отличная от интеллекта или разума, который есть способность к обучению. Эту структуру лучше определить, как ум. Не смотря на всю условность этого определения, ум относится к внешнему созерцанию, а разум – к внутреннему. Разум, как и обучение, стремится сделать человека «приемлемым членом общества», если это бандитское общество, значит, приемлемым членом этого общества. Ум к такой цели тоже стремиться. Возможно, у человека совести сознание сначала развивает разум, а Нарциссы сначала развивают свой ум… Ум и разум вместе пребывают в рамках опыта, но между ними есть трещина. Профессор Преображенский советовал Шарикову учиться, но тот предполагал жить своим умом, и в результате получилось то, что получилось. Разум созерцает закономерности, а ум, кажется, следит за тем, что делает случайность. В основе ума и разума, как раз, разный способ эмоций оценивать. Ум – не моё перепуганное сознание «собачки», которая крутит перед белыми ширмами в фотостудии головой во все стороны. Такое моё поведение было разумом, я был уже обучен вести себя цивилизовано. Среди свойств ума стремление к сомнению, а в фотостудии я заставляю себя подавлять сомнения в угоду ориентации на папу и маму. А возможность сомневаться, в чём угодно, безгранична. Например, у Кэрролла в «Что черепаха сказала Ахиллу», она превращает простое трёхчленное умозаключение в тысячечленное, снова и снова прибавляя к посылкам вопрос: «Если это верно». Заслуга ума – в обнаружении никем не установленных связей, в изобретении нового.
Правда, здесь возникает одно тонкое место. Среди женщин есть Нарциссы, но они не изобретают, как должно бы быть, не открывают закономерностей… Периодическую таблицу химических элементов придумали не женщины, педагогику написали не женщины… Шанель №5 придумали двое мужчин – парфюмер Веригин и коренной москвич Эрнест Бо – эмигранты из России, а не Коко Шанель.
Профессор Савельев вообще сообщает, что женщины имеют слабо развитые лобные доли мозга, у них, по сути, другой сорт мозга. Сначала эти доли развивались у женщин, как способность делиться пищей с детёнышем, потом мужчины получили их в наследство, и, не загруженные биологической функцией, они стали служить для изобретения нового. Профессор Савельев нас обнадёживает, что мы принадлежим с женщинами к одному виду, даже признаёт женский ум и связывает с нарциссизмом, определяя, как женские проявления доминантности: «Дамская доминантность построена на внимательном поиске мелких недочётов, противоречий и ошибок у окружающих. Вполне ожидаемо, что в поведении любого человека подобных промахов найдётся очень много. Если мелкая ошибка найдена, то она немедленно трансформируется женским мозгом в повод для доказательства собственной доминантности. Это происходит в результате инстинктивной экономии расходов энергии мозга на собственной работе. Ориентированный на репродукцию мозг женщин не хочет заниматься сложными проблемами, требующими больших энергетических затрат, проще выловить у партнёра, подруги, начальника или подчинённого мелкую ошибку и сообщить о ней столько раз, сколько нужно для сиюминутного эффекта доминирования. Если чужой очевидный промах замечен, то мозг получает внутреннее эндорфиновое подкрепление. Остаётся только представить это событие, как свои личные достоинства и доказательство явной убогости человека, совершившего ошибку. После первичного доказательства несомненной женской правоты начинается тщательное обсуждение мельчайшего вопроса во всех ещё более никчёмных деталях. Такая проработка пустой проблемы повторяется множество раз, даже в самом очевидном случае. Этим способом женской правоте придаётся намного большее значение, чем можно было бы ожидать от пустякового вопроса. Такая мгновенная трансформация мелкой чужой ошибки в доказательство реальной женской доминантности и интеллекта очень распространена». (С. Савельев «Нищета мозга»).
Специфичная активность – тоже не пассивность, скорей всего, мужской и женский мозг стали повторять друг друга зеркально: у мужчин способность к изобретению – выраженный смысл. У женщин эта способность выражает себя, не бросаясь, так сказать, в глаза, но при этом всё выглядит с точностью до наоборот. Женщины могут задавать тон, как Коко Шанель. Она изобрела способ одеваться, но не саму одежду. Двумя фотографиями женщина может показать благосостояние, ухоженность, фигуру; – это известные ориентиры, но впечатляет. Свежий взгляд на вещи женщинам доступен даже больше, чем мужчинам. Они изобретают шарм, всё может быть просчитано, кроме шарма. Женщины не изобретают только что-то вроде операционной системы Билла Гейтса. Зато прекрасно умеют этим пользоваться. Девочки вообще учатся в школе лучше мальчиков.
Женщины могут быть благоразумны. При этом умная женщина может быть неблагоразумна в привычном смысле слова, если её разум не работает, как ретранслятор. В первую очередь в качестве ретранслятора приходит на память «Душечка» Чехова. Чехов описывает её иронически, но Душечка имеет ум Нарцисса, ретранслирующая мысли избранника. Она умная и благоразумная одновременно: то и дело выходила замуж.
Внутреннее чувство всегда примитивно, отстаёт от реальности, в том числе, у ироничного Чехова. Душечка схватывала мысли «другого» и была способна им вторить, не вызывая подозрений. Это – дар. Умная женщина может иметь пять детей от пяти разных мужчин, и вести увлекательную личную жизнь, как Анжелика – маркиза ангелов. В условиях дискурса, который господствует, это настоящее изобретение.
Не смотря на то, что девушки могут прекрасно учиться, попав в затруднительное положение, они ищут выход не при помощи разума, а при помощи ума вместе с телом. Жизнь, так устроена, что они его находят.
«Сорт мозга» почти не имеет никакого значения. Женщины, у которых что-то плохо в жизни, умеют пользоваться верхним чутьём, а у которых всё хорошо, могут только врать про верхнее чутьё, – либо оно спит во время счастья. В фильме «Тринадцатый этаж» жена скомбинировала перезагрузку мужа, который стал её пугать, и так удачно всё сделала, что её хитрость, не смотря на исходную примитивность, заставляет изумиться. Интуиция женщин иногда заставляет себе позавидовать.
Когда женщина желает разрубить гордиев узел сомнительных отношений, то сдвигает «коллектив» в каком-то интуитивно верном направлении, при этом она выглядит, как катализатор, исчезающий в процессе реакции. Вся надежда на возрождение из пепла. В такие моменты в женском сознании что-то потустороннее принимает участие весьма наглядно. И это тоже не пассивность… Опыт имеет смысл, пока собирается с напряжением эмоций. Потом это почти бесполезная коллекция. Можно выбрасывать и начинать сначала…
Однажды я смотрел телевизор вместе с актёрами, они в немногих словах обсудили происходящее на экране. Меня изумила одна странность. Они смотрели фильм не так, как я, они видели игру актёров и оценивали их амплуа. Я «ухватил» мысль, даже понял, что они правей, но меня накрыла инерция привычного восприятия фильма, я только запомнил их точку зрения. Мозг тогда напрягся, чтобы пропустить новую информацию, я проявил доверие к их словам… Теперь я по-прежнему вижу людей на экране, живущих своей содержательной жизнью, но, если что-то привлечёт внимание, то вижу и актёров. Вот Алла Борисовна играет в клипе сильную женщину, которая плачет у окна, раньше бы я посчитал своё впечатление особенностью характера сильной женщины, но теперь вижу, что она едва не смеётся.
Вот «Саша» обнимает «Машу»: обычно они только разговаривают, и Саша бывает очень убедителен. Сейчас он как-то скован… Кажется, он не может отвлечься, что Елена Бирюкова – не его жена…
Александр Домогаров и Владимир Ильин, сыграв свою роль в эпизоде, по очереди выражали на лицах одинаковое ехидство и откидывались в ожидании. Меня это заинтересовало… Далее их коллега играет пьяного. Он, конечно, это делает, но даже я понимаю, что это – гипноз сцены, но, если бы ничего не заметил, то доверял бы сцене, а у них профессиональное ехидство. Доверие – это дерево, растущее без корней. Сам «пассивный синтез» Делёза является в каким-то смысле доверием. Вообще, разум, ум и опыт не играют в работе сознания никакой основополагающей роли, её играет доверие. Именно доверие при взаимодействии с «другим сортом мозга» приводит «сорта» к консенсусу. Доверие – это не различение, а направление в различении, как и недоверие, баланс активности доверия и недоверия составляет для Нарцисса главный драматический интерес. Различающее сознание похоже на очаг в каморке у папы Карло, который нарисован на холсте. Пламя на холсте не движется. Проявляя себя в различениях, «я» перерисовывает пламя, после этого пламя опять нарисовано.
Термин «схватывание» свидетельствует, что восприятие происходит мгновенно. Эта прямая активность «я» может быть связана с тем, что эмоции не зависят от времени. Пример безразмерности времени в обратную сторону – реактивный разум Хаббарда, который действует хоть через год, хоть через девяносто лет. Ноль времени уходит на логические операции, сменяющие друг друга. Переключение сознания с работы разума на ум происходит тоже мгновенно. Рефлексы действуют мгновенно, только рефлексии нашего сознания протекают во времени. Вся наша жизнь уходит на рекомбинацию дискурса, который звучит в нашей голове, являясь какой-то борьбой доверия со страхом. Время течёт для внутреннего чувства. Схватывание протекает за ноль времени, превращается во внутреннее чувство, а не наоборот, но внутреннее чувство выбирает, что схватывать, делает это, кажется, тоже без участия времени, как сложившееся, хоть и изменяющееся во времени под воздействием опыта. Эмоции при этом, кажется, живут какой-то отдельной жизнью.
Эмоции детей «наказывают» папу и маму, детские эмоции могут и радовать, но безусловный смысл эмоций должен сохраняться у взрослых. Среди примеров, когда эмоции взрослых меня радовали, – появление у меня второй жены, – а до этого я познакомился с одной дамой. Некоторое время мы помногу разговаривали по её инициативе, я даже сделал ей предложение личного характера. Дама условно отказала, я с облегчением отстал. На фантазию дамочка мне не действовала. Мы просто вращались в одном пространстве. В сухом остатке она продала мне вещицу, которая была ей не нужна. Мне вещица тоже была не нужна, но я решил её приспособить, даже нажиться, и пошёл даме навстречу. Когда через пару лет я увидел жену, у меня было слабовыраженное дежавю, но к тому времени я даму забыл.
С женой мы пересекались сходным образом – вращались в одном пространстве. И она могла принять за знаки внимания с моей стороны несколько разговоров, которых можно было не вести, потом сама меня закадрила. Я согласился поехать на электричке к чёрту на рога и помочь по хозяйству… Вместе мы прожили три года. Жена – лекарка. Мы пили яд по её инициативе. Когда от яда у меня стало резко сводить челюсть, двинулись по капельке назад… Мне с ней было интересно… Позже я узнал, что первая дама имела медицинское образование, но по специальности не работала, жена не имела образования, но лечила людей. До сих пор не знаю, в чём было дело: в жене или в глине, но от намазываний вместе с ней глиной в течение одной недели возникла усталость, как при десятидневной голодовке, но всё равно намазываться глиной легче, чем голодать. Кстати, короткая голодовка в два дня очищает эмоции.
После развода я случайно пересёкся с дамой, заметил между ними какое-то внешнее динамическое сходство. Оно не было портретное, хотя и много общего, а сходство в какой-то ауре. Увидев оживление дамы, я понял, что она, по-прежнему, желает мне себя, счёт шёл уже на годы. Кажется, дамы считают, что предложение, сделанное им когда-то, имеет силу независимо от времени… По этому признаку я заключаю, что дело не в дамах, а в эмоциях. Это их природа – игнорировать время. Теперь я не могу отделаться от мысли, что жена у меня появилась, благодаря даме. Звёзды сошлись. Положительные эмоции появились у неё ко мне, остались не выражены и начали творить. Я добился благоприятной кармы; возможно, стоило сказать: «Спасибо за жену».
Второй случай пребывал в становлении тоже не один год. Какие-то эмоции ко мне испытывала толстушка, цепляла меня разговорами всякий раз, когда видела, но я не различаю толстушек по собственной инициативе, к тому же всегда какой-нибудь муж был у неё. Она прозрачно мне намекала на свою верность мужьям… Со временем розовая толстушка превратилась в рыхлую девку, потом похудела, потом попала в центр по реабилитации пьяниц. Мы случайно пересеклись, когда она вышла из него с новым мужем. После центра организм у толстушки перезагрузился, она снова стала поправляться и розоветь… У меня толстушка занимала иногда по мелочам и стыдилась, что не отдаёт. Видимо, не знала, что со мной делать… Я тоже не знал, что с ней делать… После лечения в центре реабилитации, толстушка как курила, так и пила, и где-то потеряла свой телефон. Мне пришло в голову предложить ей обмен: я отдаю ей свой телефон, а она удовлетворяет моё сексуальное любопытство. Таких обширных баб у меня просто не было. «Нет, мы не будем жить у меня в квартире». Толстушка раздумывала какое-то время, потом отказала, это был неприемлемый для женщины уровень цинизма.
Меня же тяготят эвфемизмы, если я не влюблён… Толстушка рьяно обещала вернуть занятую мелочь, но я сказал, что деньги можно оставить себе. Как человек совести, она покинула меня с облегчением… Через неделю на улице подул ветер, пройдя сквозь стены моего рабочего места, поднял пыль. Никогда такого не было. Дышать стало довольно неприятно. Я пошёл домой. Передо мной по тротуару брела какая-то девушка в кожаной курточке. Что-то неприличное мерещилось в её спине. Казалось, её выворачивает от какого-то горя, она даже к дереву прислонилась, чтобы поплакать. Я прошёл мимо: она плакала не от голода. Различение девушки не только чувствуют, но и активно к нему относятся в случае необходимости. Обгоняя меня, девушка выразительно покосилась. В порядке утешения я предложил ей горсть мелочи из кармана. Она отказалась, как и следовало ожидать. Тогда я решил быть более добросовестным и, заранее набравшись терпения, спросил, что с ней случилось? Скованно она всё-таки согласилась рассказать. Мы сели на лавочку… Случай был из статистики: её бил муж. Потом я купил ей сигарет, но она захотела, чтобы я сделал это на её деньги. продемонстрировала мне при этом ненавязчиво пустой кошелёк, извлекая из него последнюю бумажку. Я понял. Мы посидели ещё на одной лавочке. А примерно через час оказались у меня дома с пивом. Она боялась, но ехала. Инициатива – не расставаться – исходила тоже от неё. Я только немного запутался, что ей нужно: – пиво или утешение…
Это выяснилось после пяти встреч. Моя новая знакомая была алкоголиком, муж «поддавал» ей за это. Он тоже был алкоголиком, но их утягивало в одну и ту же воронку, почему-то, порознь… После очередной стычки с мужем, пьяная, в рваных чулках, она выбралась из какой-то лужи, и появилась у меня, желая пива… Я позвонил её маме, чтобы забрала. Мне не следовало связывать себя сексуальной цепью с проблемным человеком, но мы довольно быстро притёрлись. При сексуальном контакте от неё отлетал запах перегара, заменяясь нормальным, человеческим. Это у меня вызывало гордость за свои сексуальные способности, но, как и договорено с толстушкой, любопытство было удовлетворено.
Дело не только в том, что они вместе алкоголики. Их ещё и звали одинаково.
И, наконец, – третий случай! Одноклассница отзеркалила мой воздушный поцелуй при случайной встрече и послала такой же. Чтобы убедиться, что она «ничего такого не хочет», при следующей случайной встрече я навязался в гости. Эти случайные встречи стали сыпаться на нас, как из рога изобилия, хотя раньше мы могли десятилетиями не встречаться… «С женой волшебника нужно сразу на сеновал!». Это – мой девиз. Понятно, что одноклассница отказала, но, видимо, всё-таки она пожелала мне себя… Скоро я познакомился с одной дамой, в переписке долго запутывал словами и, наконец, запутал. Что меня удивило!? Дама до законченности доводила образ одноклассницы, она представлялась её более совершенной копией. Правда, только физически; интеллектуально одноклассница сложней.
Подобия, которые возникают, кажутся каким-то самостоятельным мышлением мира. Вся эта мистика не имеет ничего общего с моим опытом. Женщины помимо моего опыта и воли становятся двойниками, а я, как заведённый сексуальный автомат, – каким-то катализатором их подобия. Смысл освобождается от форм своего созерцания, выражает себя простым тождеством двух особ, не связанных между собой ни в пространстве, ни во времени. Я оказываюсь связью между ними, единственным держателем этого смысла и «плоскостью» его регистрации. Мир реагирует номинальным тождеством на меня, откликается на силу эмоций, но, кажется, не моих. Я во всех случаях – не холодный и не горячий, только любопытный. Получается, что, как двойники, дамы имели трансцендентальное существование или не имели никакого – и вдруг стали эмпирическими фактами для меня. «Ты намеревай, намеревай!», – заклинал Кастанеда, – я и намереваю.
Темперамент является звуковой характеристикой настолько глубокой, что бывший полицейский, составив из собственной фамилии четыре анаграммы и распределив между ними смысл личной истории, («Остров проклятых»), навсегда запутал свой разум. Докторам остаётся только покончить с его профессиональной агрессией, направленной на других пациентов. Агрессия – единственное, что осталось у него неизменным, и являлась причиной того, что с ним случилось… Жена утопила в озере троих детей, сойдя с ума. Увидев случившееся, он убил жену и тоже сошёл с ума. А до этого жена жаловалась, что у неё болит голова… он не слышал, любил детей, заставлял жену их рожать, но для неё трое детей и жизнь с ними в загородном доме – слишком много. Её эмоции организованы по-другому. Такая жизнь разорвала ей разум. Муж, убив любимую жену, потом разорвал себе разум анаграммами…
«Другой», как структура восприятия мира, может подвергаться воздействию, «взбадриваться», рожать детей, но если он вышел из строя, если жена стала сумасшедшей, то и маршал стал… Структура восприятия мира несёт урон, если его несут «другие». Можно доминировать, всех попирать, но, как правило, будет нарушено различение, всех начнёшь отождествлять с собой. Единый Голос Бытия коварен. Звуки гипнотизируют смыслом, выступают, как последняя истина. Путь к истине кончился – она сама перед глазами. Разберёмся, как попался полицейский, составивший четыре анаграммы и распределивший между ними смысл своей личной истории. Возьмём слово «вдруг»: голуби говорят «гу», когда весной пьют керосин из лужицы. Это – выражение удовольствия, при чём очень глубокое, если доступно даже птицам. Концовка «вдруг» – это «гу» наоборот. Все остальные звуки тоже можно расшифровать: «р» – угроза… Если «в» произошло от «у», то «вд» – это «уд», а теперь перепутаем: «ругвд», «дрвуг» «удрвг». Как это можно осмыслить, не сойдя с ума? Если смысл личной истории запутать в анаграммах, созерцание тождеств в собственной душе будет сломлено. В итоге – опять же безумие. После случившегося эмоции полицейского проделывают трюк с запутыванием тождеств его Нарцисса, но последнее определение его духа сохраняется в неизменном виде. Это – агрессия. Она оседлала активность – и доигралась. Безмерность в каком-нибудь пункте вообще характерна для всех ненормальных. И безмерность – явно не пассивность. В романе «Петербург» Дудкин, страдающий галлюцинациями, перед окончательным безумием тоже разбил фамилию Шишнарфиев на слоги Шиш Нар Фне, потом превратил их в Енфраншиш. Анаграмма наполнилась для него смыслом, и он лишился последней адекватности. Кажется, по сравнению с анаграммами галлюцинации, «мягкий» вариант безумия. Погружённый в них Дудкин ещё мог сойти за человека.
С переворачиванием смысла, похожим на анаграммный, можно даже играть. «Ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота, выскочила палка с бабкою в руке и давай охаживать коня на мужике». Сны – мягкий вариант галлюцинаций – тоже могут добираться до смысла звуков.
После поминок дяди Вани мне приснился сон: слово «Ваня» вступило в смысловой резонанс со словом «совет». Сходящийся смысловой ряд поразил моё воображение. После пробуждения смысл рассыпался, но косвенно сон навёл на мысль о возможном решении одной проблемы: когда-то я искал причину возникновения ритма прозы, но так и не нашёл… Если ритм стихов задаётся чередованием ударных и безударных слогов, то, чем задаётся ритм прозы? Между словами «Ваня» и «совет» есть общий звук, ударение падает рядом с ним в обоих случаях. Если допустить, что изначальный смысл сознания – это смысл звуков, то ритм прозы задаётся согласными, слегка «освещёнными» блеском ударения. Тем более, «в» ведёт происхождение от гласного «у». Если сознание погрузилось в сон, совмещается несовместимое. В этом случае речь идёт о смысле, который освободился от форм своего созерцания. Сны свидетельствуют, что формы созерцания и смысл разделимы… Я вижу во сне и даже не один раз «место», где долгое время работал, испытываю реальную вовлеченность, но такой работы не было в действительности. Анализ сна приводит меня к выводу, что слиплось три реальных места, которые я знал: одноэтажная баня, где приходилось в детстве подолгу изнывать в очереди, институт, где я работал на пятом этаже, и книжный склад. Все три места объединял общий смысл, который состоял именно в скуке ожидания. В институте начальник не знал, чем занять нас и говорил: «Ну, вы, ребята, сами озадачивайтесь». Мы изнывали целыми днями от безделья. На книжном складе приходилось сидеть, читать по пол дня и ждать контейнер, про баню я уже сказал. Во сне один и тот же смысл слепил три места в одно. Работа, которой у меня никогда не было, находилась на втором этаже; первый этаж неуловимо напоминал помещение бани, даже имел запах бани, во сне этот первый этаж – пустая, большая зала, вроде вестибюля, совершенно не приспособленная для работы. А состоит работа в том, что на втором этаже склад, что в действительности, было бы совершенно неудобно…
Мышление, зависимое от тождеств дискурса, представляется вполне нормальным. Странности начинаются, когда возникает «настойчивость» в выборе одного и того же. Тогда возникает ритм сумасшествия – и тоже не пассивный. Это может быть связано с тем, что человек имел личный успех, и соблазнился потакать своей природной склонности. Всем хочется повторить свой успех. Можно сказать, это – самый большой соблазн в жизни… Одна знакомая мне девка повторяла матери требование решительным, низким голосом, закрывавшим её от воздействия, и однажды вдруг одержала победу. Для любой девки это достижение, обычно они слушаются своих мамок. В итоге её поведение стало организовано тем способом, который привёл её к победе. Схема ссоры – повторение одного и того же низким, решительным голосом – стала применяться ею во всех случаях жизни без различения. Её мать теперь вынуждена нести свой крест и всё время проигрывать. и нет никого у взрослой дочки, кроме мамы. И она не может понять ловушку, в которой оказалась. Её собственный, решительный, низкий голос привел её в «мягкую» форму сумасшествия.
Любой пунктик – это расписание. Если пунктик очень изощрён и не определяется, то невыносимость отношений выдаст душевную болезнь. Если отношения становятся невыносимы и не прерваны – это пассивность уже не душевнобольного, а умственно здорового терпилы. Если душевнобольные поглощают внимание окружающих, это не пассивность с их стороны.
Если душевнобольной проявляет себя «не правильно и не красиво», это расходится с дискурсом, который начинает «голосить», и псих привлекает к себе внимание. Если сумасшедший себя проявляет красиво, но неправильно, это тоже привлекает внимание, потому что расходится с дискурсом. Если окружающие ведут себя «правильно», а взаимодействия с психом всё равно «некрасивое», – и это расходится. Во всех случаях возникает нонсенс, и производит смысл в избытке. Можно сказать, что сумасшедшие, как и гении, организуют наше внимание. Гении – это не пассивность но есть всё-таки пассивные сумасшедшие. Как говорит М. Жванецкий: «Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один».
Как правило, можно предвидеть, что психи начнут блеять. Как правило, они – одиночки, унылы и ничем не отличаются от окружающих дискурсивно организованных граждан. Если они искусно и грамотно следуют дискурсу, то и вообще считаются нормальными. Одна такая дама жила в нашем доме. Мне стало известно, что она – сумасшедшая после того, как дама громко взялась доказывать, что соседка с верхнего этажа льёт грязную воду на стену дома во время дождя. Эта вода стекает у неё по стеклу. Дождик, ведь, – чистая вода!
Легко заметить, что у сумасшедших общая со всеми картина мира: это злодеяния соседки сверху, а не снизу. Всё течёт сверху вниз, а не снизу-вверх. Она же – не дура!
Сумасшедшие так же унылы в своей воображаемой реальности, как прочие дискурсивные личности, только запутаны иначе. Если жизнь психики, сама себя не различающая, кому-то действуют на воображение и кажется содержательной, то, конечно, каждому – своё. Лично мне содержательной жизнью представляется что-то, отменяющее общезначимый смысл. Например, Христос, ходил по воде, даже если это легенда, это – именно такая отмена общезначимого смысла. Ещё меня впечатляет Серафим Саровский, который запретил змеям ползать вокруг своей обители, и они там до сих пор не ползают. Время над запретом не властно, змеи кишат кругом, но рядом с обителью в радиусе нескольких километров их нет. Об этом пишет Олег Горбовский: по примеру святого он договорился с своими тараканами в квартире, чтобы ушли. У него получилось. Я, по примеру Горбовского, договорился со «своими». У меня тоже получилось: лет двадцать их не было, потом я об этом вспомнил и рассказал жене. Лекарка решила померяться силой и вернула тараканов. Я «угостил» их дихлофосом… Жена тоже поняла, что без них лучше. Ещё я рассказал ей об одной сестре, лечившей брата от порчи. Эту историю мне рассказывал сам брат. Сестра заговором болезнь свела в яйцо, пошла ночью на лесной перекрёсток, чтобы его разбить, била со всей силы о камень и не разбила… Жена кратко сказала: «Она была просто слабая». Пассивность и активность отношения с субъектами и объектами является критерием ведунов.
Приложение.
Пять литров крови циркулирует в теле, спинномозговая жидкость идёт потоком, который можно сравнить «со струёй воды из крана диаметром около трёх миллиметров». Печень вырабатывает каждые сутки три литра желчи. Какая деталь могла бы управлять процессами метаболического вихря, будучи внутренней и зависимой от сбоев в работе сложной системы? Вера Ницше в тело, как последнее основание, плохо обоснована, и в «Воле к власти» он заявил, что нет никакого «я»:
«Сфера всякого субъекта постоянно разрастается или сокращается, постоянно перемещается и центр системы: в случае, когда он не в силах организовать усвоенную массу, он распадается надвое. С другой стороны, он может преобразовать более слабый субъект, не уничтожая его, в подручную себе силу и до известной степени образовать с ним вместе новое единство. Не «субстанция», но скорее нечто такое, что само в себе стремится к усилению и что хочет лишь косвенно сохранить себя (оно хочет превзойти самого себя)» … Ницше замечал ноль времени: «Между двумя мыслями ещё имеет место игра всевозможных аффектов, но движения слишком быстры, поэтому мы не замечаем их», – он задаётся вопросом: «кто активен, «кто истолковывает?», – что-то остаётся ему непонятным, но не смотря на все вопросы, категоричен: «Мы не имеем права спрашивать: кто же истолковывает?». – Кажется, он поставил перед собой какую-то цель… Что это может быть за цель? Ницше уделил самое пристальное внимание борьбе между описанием мира и его схватыванием, заметил принцип отбрасывания части восприятия и подчинение дискурсу: «Самое существенное в мышлении включение нового материала в старые схемы, уравнивание нового… Мера того, что вообще доходит до нашего сознания, находится в полнейшей зависимости от грубой полезности осознания. Всё, что осознаётся, есть некоторое конечное явление, заключительный акт… Ощущение, которое наивно предполагалось обусловленным внешним миром, скорее обусловлено миром внутренним. Истинное воздействие внешнего мира протекает всегда бессознательно. Основной факт «внутреннего опыта» – это то, что причина вымышляется после того, как действие уже совершилось. Боль проецируется в известное место тела, хотя не имеет там своего пребывания. Не существует ни «духа», ни разума, ни мышления, ни сознания, ни души, ни воли, ни истины: всё это фикции, ни к чему не пригодные. Дело идёт не о «субъекте и объекте», но об определённой породе животных, которая может процветать только при условии некоторой относительной правильности, а главное закономерности её восприятий, так, чтобы эта порода могла накоплять опыт. Для того, чтобы определённая порода могла удержаться и расти в силе, она должна внести в свою концепцию реальности столько пребывающего в себе равным и доступного учёту, чтобы на этом можно было построить схему поведения. Каждая порода захватывает столько реальности, сколько она может одолеть и заставить служить себе. Фактов не существует, только – интерпретации. «Субъект» не есть что-либо данное, но нечто присочинённое. Нужно ли позади интерпретаций помещать ещё и интерпретирующего? «Молния сверкает», как разделение на действие и деятеля – фикция, наша грамматическая привычка к действию полагать деятеля. Наши потребности – вот что истолковывает мир. Мы подставляем какое-нибудь слово там, где начинается наше неведение, например, слово «я». Понятие субстанции есть вывод из понятия субъекта. «Субъект», будто многие наши состояния – действия одного субстрата, фикция. «Одинаковость» этих состояний мы сами создали. «Мышление полагает «я»; но до сих пор верили, подобно толпе, что в «я мыслю» лежит нечто непосредственно достоверное, что это «я» есть данная нам причина мышления, по аналогии с которой мы понимаем все другие причинные отношения. Как бы привычна и неизбежна не была теперь эта фикция, это одно ещё не может служить доводом против её вымышленности».
«Всё инстинкт, всё заранее направлено по определённому пути. Здесь отсутствует свободная воля. Инстинкт избирает сам себя, ибо он тиран» … Феномен тела наиболее богатый, отчётливый и осязательный. Допущение единого субъекта не является необходимым. Не менее позволительно принять множественность субъектов, солидарная деятельность которых лежит в основе мышления. Вера в тело фундаментальней веры в душу. Субъект-единство, стоящий во главе некоторого общества, зависит от управляемых, от условий порядка рангов и разделения труда. Борьба выражается в повиновении и повелевании. Некоторая неизвестность, в которой находится «правитель» относительно отдельных отправлений и беспорядков в среде управляемого им общества жизненных сил, принадлежит к условиям, при которых вообще приходится управлять. Мы учимся ценить необходимость видеть всё в общих, грубых чертах, ценить незнание, упрощение, фальсификацию и перспективное. Истина есть тот род заблуждения, без которого некоторый определённый род не мог бы жить. Ценность для жизни является последним основанием. Наш познавательный аппарат устроен не в целях «познания». Наш интеллект также является следствием условий существования; будь он нам нужен не таким – если вообще допустить, что мы могли бы жить иначе, – он был бы не таким. Весь познавательный аппарат есть абстрагирующий и упрощающий аппарат – направленный не на познание, но на овладение вещами. Нет сомнения в том, что все восприятия проникнуты суждениями о ценности (полезно или вредно, следовательно, приятно или неприятно). «Мораль – система оценок. Во всякой оценке дело идёт об определённой перспективе: сохранении индивида, общины, расы, государства, Церкви, веры, культуры. Это в самом существе своём является великим методом познания: позволяет ощущать разнообразные «за» и «против», возвышаться до справедливости – до понимания лежащих по ту сторону оценок добра и зла… «Хотеть» значит «хотеть цели». «Цель» предполагает оценки». Первая интеллектуальная деятельность – вера. Я верю, что то или другое так, а не иначе. Из того, что мы должны обладать устойчивостью в нашей вере, чтобы преуспеть, мы вывели, что «истинный» мир не может быть изменчивым и становящимся, а только сущим. Логика связана с допущением, что существуют тождественные случаи. Не «познавать», но схематизировать, придавать хаосу столько регулярности и форм, сколько потребно для наших практических целей. Наша вера в вещи есть предпосылка веры в логику. Логика, как и атом, есть конструкция подобия «вещи». Мы стоим уже на пути к тому, чтобы признать за реальность все эти ипостаси: субстанцию, предикат, объект, субъект, действие; создаём концепцию метафизического мира, то есть «истинного мира». Логика обладает лишь формулами для неизменного. «Сущее» составляет принадлежность нашей оптики. «Я» как сущее (не затрагиваемое становлением и развитием). Познание и становление исключают друг друга. Познанию должна предшествовать некоторая воля к созданию познаваемого. Логика есть попытка понять действительный мир по известной созданной нами схеме сущего. Есть лишь одно сущее – «я» и по его образу созданы все прочие «сущие».
Отрицая сущий мир, Ницше оппонирует Гегелю, вызывающе нападает на все философские понятия Гегеля объявляет их фикциями, пытается обосновать логику пользой «именно такого мышления», – но идея, которую Ницше провозглашает, – становление –тоже принадлежит Гегелю. По Гегелю, становление не происходит, как угодно, имеет форму, но Ницше сгрёб всё в кучу и выбросил, даже память выбросил, а в отношении логики, которая мозолит глаза, сам прибег к фикции: «Первоначально – хаос представлений, потом выработка регулярности на основе тождественных случаев». Прежде, чем научиться толком говорить, я не имел хаоса представлений, опыта тоже не имел, логическое мышление превосходило словарный запас, – но это совсем другая проблема. Моя логическая комбинаторика была идеальной, не смотря на отсутствие опыта и чего бы то ни было, а родилась вместе со мной и не возникла позже.
Логично себя ведут и животные. Ницше сам признаёт это, регулярные, тождественные случаи становятся таковыми тоже благодаря врождённой логике… В то же время «вещь в себе», по Ницше, нелепа, есть понятие, лишённое смысла. Вроде бы, она могла ему пригодиться против логики… Сведение всех прежних наработанных в философии понятий только к становлению – это явное упрощение, как и требует Ницше. Он одержим становлением и даже предлагает не различать тождества.
Проблема, которую Ницше ставит, он сам же и определил: «Наше мышление пропитано отрицанием реального мира». Ницше борется за новое различение, разрушает тождества современного ему мышления, а пример такого мышления мы можем найти в книге «Скорбь Сатаны», увидевшей свет в конце 19 века. В наше время она была опубликована под именем Брэма Стокера, на самом деле, автор Мария Корелли. Главная героиня – тоже дама, которая пишет, её инициалы содержат анаграмму писательницы – Мэвис Клер.
Как автор, Мария Корелли не вызывает никакого «ах!». Но в её скучном творчестве отразилось нечто прямолинейное, это заставило меня набраться терпения, и я не посетовал на свою усидчивость. Во-первых, Мария Корелли воспроизводит канон о дьяволе, с давних пор существующий в литературе: когда к Джефри Темпесту в гости приходит Лючио Риманец, прежде всего, вносят свет. Это давно известный литературный приём, визитная карточка победительных тёмных сил: издатель Рудольфи в «Театральном романе» М. Булгакова приходит в гости к Максудову, когда тот лежит на полу в полной темноте, и тоже прежде всего вкручивает лампочку, после чего принимает роман Максудова в печать и даже выплачивает гонорар.
Мэвис Клер живёт в сельском коттедже, по меркам Англии, она – особа не очень состоятельная, коттедж – это «хижина дяди Тома». Но, не смотря на коттедж, Мэвис Клер находится, как принято говорить, на вершине пищевой пирамиды: её книги быстро раскупаются. В «хижине» – безукоризненная служанка, других людей нет. Мэвис Клер живёт с птицами и собаками. Её снисхождение к людям проявляется в том, что она пишет для них книги: «Ясность мысли, блеск слога, красота выражений – всё это принадлежало ей».
В дальнейшем писательница не ограничится скромными похвалами своей ипостаси, они потеряют всякие границы. Мэвис Клер превзойдёт всех леди в Англии, есть намёк, что в древнем Египте она была царицей. Люцифер несколько раз споёт ей хвалебную песню. Где-то на полюсе за ледяными торосами у него есть домик, похожий на коттедж Мэвис Клер, будет намёк, что Мэвис Клер – ангел. Не заявлено только, что Мэвис Клер – сам Бог. Мария Корелли удержалась…
Мэвис Клер возникла на страницах книги не сразу, сначала появился другой писатель: Джефри Темпест. И можно было подумать, что это и есть Фауст. Джефри живёт в Лондоне, снимает комнату, пребывает в нищете, голодает, у него маленький талант и заскорузлая нравственность. Мэвис прекрасно осведомлена о его зависти к её гениальности. Она вообще хорошо осведомлена: все, что случается в Лондоне, ей известно. Все циркулирующие в Лондоне сплетни известны в сельском коттедже. Для чистой девы это немного странно, но писательница не замечает никакого противоречия и предаётся демагогическим оргиям: Мэвис Клер способна восхитить даже пастора. Её возраст специально не разглашается, но судя по всему, она – ровесница молодой леди Сибиллы: та возникла по ходу сюжета: Джефри Темпест получил в наследство пять миллионов фунтов, и леди Сибилла должна стать его женой. Она провела детство в поместье по соседству с коттеджем Мэвис Клер, ей запрещали играть с рыжеволосой девочкой из коттеджа. Она очень об этом сожалеет… Свадьба леди Сибиллы и Темпеста проходит в замке с пышностью. Но торжество оставляет какое-то гадостное ощущение. Скоро Сибилла вообще умрёт, греховная страсть к красавцу Лючио Риманцу откроется у неё, а супружеский долг перед каким-то типом, Джефри Темпестом нужно было соблюдать. Ещё до свадьбы погибла мать Сибиллы, не позволявшая дочке играть с рыжеволосой девочкой. Она давно утратила красоту, много лет разбита параличом и под «знакомую музыку» в исполнении Лючио Риманца корчится в когтях дьявола… Такое впечатление, что фантазия рыжеволосой девочки ставит последнюю точку в какой-то мести… Мария Корелли со снисходительной усмешкой оставила в живых только набожную тётку Сибиллы. Старая дева – не конкурентка Мэвис Клер ни в чём… Папа Сибиллы после ужасной кончины жены сходится с пошлой американкой.
Собственно, молодая леди Сибилла гибнет вынужденно. Какой-то особой досады у писательницы на неё нет. Скорей всего, Мэвис Клер сама должна выходить замуж. Джефри Темпест – товарищ по цеху, – а нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Фантазии о молодом миллионэре у Марии Корелли сплетаются с чем-то реально существующим, но на протяжении всего повествования Мэвис Клер демонстрирует отсутствие интереса к происходящему. При этом её месть оказывается удовлетворена, почти не извлекаясь на свет. Рыжеволосая писательница из коттеджа парит над текстом книги, как её смысл. На прямое, как палка, намерение Мэвис Клер выйти замуж делается только несколько косвенных намёков. Это намерение в книге, почему-то, замалчивается и запутывается. Сначала будущий муж отдаётся сопернице, после этого леди Сибилла, конечно, обречена. Как эти женщины любят друг друга. Ещё в связи с какими-то мифами сознания Джефри сажей выпачкан вместе со своей книгой, после смерти леди Сибиллы тонет в море, носится вместе с обломками яхты между небом и землёй, но пообещал быть с Богом и только с Богом… Вроде бы, Мария Корелли удержалась?! В итоге Джефри Темпест отстиран от всякой сажи и готов к бракосочетанию… Этот тип, вообще-то, совершил странную подлость, написал в журнал статью, захлёбываясь гадкой критикой по поводу последней книжки Мэвис Клер…
Я лично здесь логику не ищу, более того, здесь недоступный моему сознанию логос… Кажется, что Мария Корелли на себя натягивает победный вэйланс религиозной личности, врагов которой карает сам Бог, но это было бы слишком просто. Концы всё равно не сходятся. По крайней мере, какая-то трещина между примитивностью повествования и моей способностью его понять – бежит. Я в очередной раз почувствовал себя тупым… После того, как Джефри Темпест поклялся «быть с Богом и только с Богом», черты чудовища плавно переходят в черты красавца. Это – знакомый «Аленький цветочек». Но опять, если бы всё было так просто…
Джефри Темпест выжил, состояние, правда, потерял, зато его книга стала продаваться и приносить маленький доход. Такое впечатление, что иногда Мария Корелли выныривает в реальность. Мысль жениться на ней Джефри Темпесту подсказал сам Сатана. Интересно, почему нравственной девушке, как Мэвис Клер, невозможно выйти замуж, не прибегая к помощи дьявола? Разумеется, в их будущем доме может быть только одна хозяйка. Это – Мэвис Клер. Она сама пишет Темпесту записку с предложением её посетить, берёт в свои руки мужскую инициативу. Это – логично. Нельзя оставлять вопрос на самотёк…
Авраамические религии подчинили миф самок, лишили его голоса, навязали женщинам мужские представления: муж должен быть защитой, опорой… Но, кажется, женский миф у Марии Корелли расправил крылья. Для неё муж должен быть тряпкой, в тряпку женщина заворачивает уязвимые места души и тела. Это как-то похоже на защиту и опору… Мужские и женские представления могут сосуществовать друг с другом, но, по мнению М. Корелли, акцент должен стоять на женских. Разумеется, какая-то дань мужским представлениям будет отдана, и Мария Корелли сразу начинает смотреть на жизнь глазами «мужа». Повествование ведётся от имени Темпеста. Он выглядит поначалу, как главный герой.
Проявлять конформизм с мужскими авраамическими религиями женщина готова с похвальным энтузиазмом… При этом Мария Корелли слепо на себя полагается, в любви к себе не сомневаться. Это – тоже здравая позиция: её возьмут замуж. Напишет записку – и возьмёт себе мужа. Понятна по-человечески и задача – скомбинировать, как можно полнее, свои хотелки.
Выйти замуж можно, выполнив всякие условности… «Страж порога» мужских религий провозглашает: – потребности плоти нужно совместить с безупречной нравственностью. А ещё Марии Корелли нужно совместить с нравственностью богатство. Это для всех не просто – совместить желаемое и действительное. В чём тут желаемое, а в чём действительное? Богатство, с одной стороны, как и желаемое, и с другой стороны, как и действительное, нравственность, как назойливая фантазия, только мешает выходить замуж. Как совместить удовлетворение потребностей с ханжеством, описывающим мир? – Вот какая проблема стоит перед Марией Корелли. Реальность двоится на потребность иметь личную жизнь и на ханжество, но девочки учатся лучше мальчиков…
В итоге, Мария Корелли оказывается проводником в мир неожиданных представлений. Для современного дискурса религиозность и помощь дьявола выглядят противоположным смыслом, но, на самом деле, дьявол – и есть религиозность. Только он может совместить каким-то волшебным образом все ханжеские условности, безупречную нравственность и потребность в браке и богатстве… Медуза Горгона и прочие символы женского сознания с языческих времён загнаны ад, теперь дьявол – представитель ада. Мэвис Клер нужна поддержка своего «божества». Она держится перед ним независимо. Это требование авраамических религий.
«Фауст» у Марии Корелли оказался женским… В итоге религиозность не соответствуют ничему, зато выражается, как положено. Мария Корелли представляет мужа управляемым и для себя предсказуемым. Это законно и нравственно (от слова «нравиться»). Это резонно и оправдано: с какой стати доверять чудовищу, даже превратив его в принца? Джефри Темпест без денег не дотягивает до «принца», но Мария Корелли над этим работает. Темпест деньги потерял и сам не ищет: он «только с Богом, только с Богом», – но их ищет банк, то есть профессионалы. Мария Корелли оставляет за кадром своё окончательное торжество, но намёки не возбраняют читателю додумать счастливый исход.
«Проклятые поэты» придумали способ обойти общественную скуку, воспели женщину с прошлым: «Ты уже женщина с прошлым, и мы уже чешем блуд!», – но Марию Корелли не интересует преодоление барьеров в обществе, она различает женское счастье по-своему. Мэвис Клер нужен муж богатый, она собирается установить с ним значимые для себя отношения, но при этом такие же, как с птицами и собаками.
Религиозный образец патриархата устроен так, что позволяет втиснуть любое содержание, но для мужских религий принципиально, чтобы самки не проявляли сексуальную инициативу. После этого у них не будет и никакой другой. Множество конкретных патриархальных представлений перекрывают возможность женщинам выражать себя в чистом виде. В итоге их инициатива должна себя шифровать – инициатива наказуема – и мы наблюдаем, как Мария Корелли бьётся в этих сетях. Наделив Джефри Темпеста деньгами собственного божества, она начинает выкручиваться, хочет, чтобы деньги вернулись после свадьбы, но прямо хотеть этого нельзя… К тому же по-хорошему деньги надо отдать на церковь, есть полный резон утверждать, что денег нет.
Откуда могли взяться мужские религии – такие скучные для мужчин, если мужчинам нравится «чесать блуд»? Когда у нашего хомячка появилась самка, он похудел, косточки стали выглядывать, и шерсть полезла, а после третьего помёта хомячков Роня вообще умер. Самка замирала то и дело в позе, удобной для сношения, и он не мог себе отказать… Роня был сообразительный, самостоятельно установил с нами личный контакт. Когда мы проходили мимо клетки, вставал на задние лапы, кивал головой: «Мол, что будем делать?». – к тому же он был очень живописный, как бурёнка, и скоро стал бегать по квартире, по нам бегал. Самка тоже бегала время от времени, но по углам, как посторонняя мышь. Её брали на руки, она шипела. При соответствующих намёках с её стороны, бедный Роня с собой ничего не мог поделать, тем не менее. Я думаю, если к «самкам» вернётся их сексуальная инициатива, мир превратится в ферму по выдаиванию козлов… Но религия нас разделила и развела. Вернее, это сделал патриархат, узду на кулак наматывая постепенно, проводя сквозь все эпохи и народы (глобально), линию подавления женской сексуальной инициативы. Патриархат различил опасность для самцов. Мы можем вычитать между строк, что в древнем мире сексуальные отношения ещё оставались безразличны к формам секса, но к нашему времени патриархат навёл в деле порядок. Нравственный беспорядок – женский подход к этому делу. Возможно, «Вакханки» Еврипида – жуткий реализм. Так вели себя женщины, ещё не замороченные патриархатом. Мария Корелли, включившая женскую фантазию, тоже сначала отдаёт «суженого» сопернице…
Не всякая нравственность уместилась в выраженный патриархатом дискурс. Мачеха – женщина, не любящая детей, сжирающая их, как хомячиха, главным образом, не любит заботу о них. Сказки уже ужаснулись этому факту, стали заклинать действительность, сочиняя дискурс. Слово «мачеха» не исчезло, как и сам факт, только изменило свой смысл. Мачеха теперь не любит чужих детей, но нельзя любить своих детей и топтать ногами прочих… Это противоречиво. В «Вакханках» этой лжи ещё нет. Во время вакхических блужданий замороченные женщины открывали в себе свой собственный смысл. Современные девочки тоже видят глубокий смысл в анекдоте: «Идёт Красная Шапочка по лесу, навстречу серый волк: «О, Красная Шапочка!». – О, серая шубка!». Девочка решила отнять? В «Песнях птицы Гамаюн» есть персонаж Буря-Яга, это – молодая женщина. Сказки состарили её, превратили в нечто однозначно плохое, но баба Яга –точное описание женщины.
«Женщина впитывает, как мужчина говорит, двигается, ест и спит – живёт его ощущениями», – хотел бы я иметь такую жену. Это – Ева, но есть и другой женский аспект, пьющий кровь… Кажется, люди этим и занимаются всю жизнь: «едят и пьют» друг друга. Это составляет наше счастье. И кто активней ест и пьёт: женщины или мужчины – ещё вопрос. Это именно вопрос активности, а не дискурса. Ева– прелесть. Я бы сам её выпил, но Ева – тип женщины далеко не единственный. Легенда гласит, что Бог сначала сотворил Лилит, и она никуда не делась. Пересоздавая Еву, Бог только сделал её конформисткой: по маской Евы – Лилит, Буря Яга, ещё нимфа и Лорелейя. Это – на всех языках и в культурных традициях.
Мы живём в волшебном мире. Аполлону противостоит Вакх – женский Бог. «Прохожий», как Вакх, есть в рассказе Бунина «Сила». О чём-то таком же сказка Пушкина: «О попе и работнике его Балде». Вряд ли в сказках и рассказах совсем нет никакой истины, – одна ложь. Патриархат обрамляет древний мир, Восток, Запад, ислам, византизм, католицизм, протестантизм… Ко времени Ницше он достиг полного подавления женской инициативы, это произошло вместе с мужской. Чтобы подавить сексуальную инициативу, пришлось подавить всякую инициативу. Процесс жизни стал замирать. Что с нами сделал тысячелетний лозунг небес: «Истончим эмоции ханжеством». Современное сознание уже с трудом оперирует в действительном мире. Патриархат коварен, лицемерен, жесток: всё, что в мире делается, – грех. Ницше почувствовал многослойность общественной лжи и бросил ей вызов. По-своему его бросила и Мария Корелли своими фантазиями, полностью растворившись в этой лжи. Девушке невозможно выйти замуж, не прибегнув к помощи дьявола. Он – гарантия успеха. Мы наблюдаем, что в конце книги Бог поднимается, как флаг в советском кино. Понимание Бога у Корелли не соответствует ничему, это только фетиш – субъект общественного сознания.
Фетиш является основанием для логики дискурсивных поступков, а дискурс преследует цель, включает в себя телеологию. Дискурсивная логика поступков не предполагает искренности по отношению к миру. Хомячиха, сжирающая своих детей, обладает искренностью и активностью. После родов у неё в организме кальция не хватает, а дискурс симулирует искренность. Регулярные идеи, выработанные на основе опыта управления обществом, создают его. Но со временем дискурс перестал быть чьим-то опытом, стал традицией и априорностью. Дискурс для личности – это почти всегда чужой опыт, принимаемый на веру под воздействием авторитета. Момент доверия, имеющийся в нашей душе, побуждает разделять дискурс искренне, но, если дискурс не будет разделяться искренне, то будет разделяться принудительно. Страх общественного порицания заставляет его разделять. «Другой» – структура восприятия мира.
В итоге для человеческой личности дискурс – бесконечная идея, априорно определяющая сознание, образующая некое единство с мифом и побуждающая их путать, но вопрос, что будет активным, а что – пассивным, стоит всегда. И миф в сознании писательницы стремится отождествить мир с собой. Это выходит у неё в соответствии с заскорузлой нравственностью Джефри Темпеста. Он – тоже ипостась Марии Корелли…
А нравственность у неё очень заскорузлая. Судя по всему, в коттедже Мэвис Клер живёт всю жизнь, где её старшие родственники, которые есть у Сибиллы? Их тоже Бог покарал? Близкие вообще вызывают друг у друга сильные эмоции. Людям не под силу «возлюбить ближнего». Эта нелюбовь имеет красочную статистику: «В США автор книги о семейной гармонии «Как сохранить брак» застрелил свою жену и выложил в Fаcеbook фотографию трупа. Дейл Карнеги, автор книги «Как завоевывать друзей», умер в полном одиночестве. Автора книг о воспитании детей Бенжамина Спока его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых». Бог вопрошает, как в начале времён: «Где брат твой, Каин!?», – и слышит в ответ ложь.
Это интеллектуальное и нравственное убожество следовало как-нибудь реформировать. Бог обращается к Ницше: «Скажи им, что меня вообще нет!». И Ницше сказал: – Бог умер! – Он назвал Сократа евреем и приковывал к позорному столбу. Тот в своё время выдвинул формулу разум= добродетель= счастье: «Сократ проник в эллинский мир, придумал добродетель, которая тиран над инстинктом, чтобы этот мир разрушить!». Рене Декарту тоже досталось…
Декарт выводил cogito из субстанции, – то есть из Бога. Свой cogito он обосновал следующим образом: «Я счёл нужным допустить, что нет ни одной вещи, которая была бы такова, какой она нам представляется. Поскольку есть люди, которые ошибаются даже в простейших вопросах геометрии, я, считая и себя способным ошибаться не менее других, отбросил, как ложные, все доводы, которые прежде принимал за доказательства. Наконец, принимая во внимание, что любое представление, которое мы имеем в бодрствующем состоянии, может явиться нам во сне, не будучи действительностью, я решил представить себе, что всё когда-либо приходившее мне на ум не более истинно, чем видение моих снов. Но я тотчас обратил внимание на то, что в это самое время, когда я склоняюсь к мысли об иллюзорности всего на свете, было необходимо, чтобы я, рассуждающий таким образом, действительно существовал. И заметив, что истина: я мыслю, следовательно, я существую, – столь тверда и верна, что самые сумасбродные предположения скептиков не могут её поколебать, я заключил, что могу без опасений принять её за первый принцип искомой философии».
Ницше на это возразил: «Мыслят, значит, существует мыслящее» – к этому сводится аргументация Декарта. Но это значит предполагать нашу веру в понятие субстанции «истиной уже а рriоri», ибо когда думают, что необходимо должно быть нечто, «что мыслит», то это просто формулировка нашей грамматической привычки, которая к действию полагает деятеля. Короче говоря, здесь уже выдвигается логико-метафизический постулат – не только нечто констатируется. По пути Декарта мы не достигаем чего-либо абсолютно достоверного, но приходим лишь к факту очень сильной веры». Выражаясь современным языком, Ницше определил доказательство Декарта, как нарративную практику, основанную на вере в истинный мир…
Кант тоже с долей сомнения относился к тезису Декарта, считая его общей посылкой: «Всё мыслящее существует». – Но если мы внимательно посмотрим на то, что говорит Декарт, – то должны признать, что он выводил cogito не из этой посылки, а из различения. Кант переводит различение в отождествление: активное в пассивное. Насколько это правомерно?
Дедукция сравнивает большую и малую посылку, отождествляет их: «Все лебеди белые. Это – лебедь. Значит, он – белый». Долгое время большая посылка в этом умозаключении считалась дедуктивной, пока во дворце султана крестоносцы встретили чёрных лебедей. «Все лебеди белые», – оказалось индуктивное умозаключение на основе опыта. Кант, по сути, вводит такую же оплошность в рассуждение Декарта, потом выражает сомнение в том, что сам сделал. Это можно описать сравнительно. Мы способны манипулировать своим отражением в зеркале, например, взять и поднять руку. Само отражение не может поднять нашу руку или поднять её без нас. Мы активны по сравнению с отражением, оно – пассивно. Эта ошибка не сильно бросается в глаза, потому что реальность и её отражение меняются местами на каждом шагу. Это – оправдание Канта, но когда-то он сам написал: «Аналитические понятия чистого разума, – самый надёжный и плодотворный способ познания». Аналитические понятия вызывали у него энтузиазм, на их основании он полагал, что возможны и синтетические сужения чистого разума. Различение – именно активный способ познания.
Гегель, признавая «синтетическое единство апперцепции» самым глубоким и правильным выводом Канта, считал, что трансцендентальная философия потерпела провал. По мнению Канта, положение «прямая линия самое короткое расстояние между двумя точками» – синтетическое суждение чистого разума. В данном случае, к понятию «прямая линия», содержащему в себе только качество, прибавляется вывод о количестве расстояния, который в понятии не содержится, то есть прибавляется к понятию созерцание, – но, что именно прибавляется, когда прибавляется созерцание? Вместо сogito Декарта, Кант выдвинул собственное сogito, – то самое внутреннее чувство, которое пассивно и изменяется под воздействием схватывания. Внутреннее чувство или старый опыт закрывает нас от новой информации, но схватывание борется с ним, переписывает внутреннее чувство, активно действует «на нём». Внутреннее чувство – в пассивной роли.
Делёз присоединился к cogito Канта, но сделал экспертизу того и другого cogito: «Форма, в которой неопределённое существование становится определяемым через «я мыслю», есть форма времени. Моё неопределённое существование может быть определено только во времени, как существование феномена. Спонтанность, которую я осознаю в «я мыслю», может быть понята только как переживание пассивного мыслящего существа, чувствующего, что его мышление, его собственный рассудок, то, чем он говорит «я», производится в нём и на нём, но не им самим. Одним словом, надлом или трещина «я», пассивность мыслящего субъекта – вот, что означает время… Декарт сводил cogito к мгновению, исключая время». Вот с этим у нас никаких проблем. Декарт – наш человек! Cogito Канта – рациональное понятие, – нарисованный на холсте, пассивный очаг, который сogito Декарта перерисовывает время от времени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Два столпа классической немецкой философии – Кант и Гегель – по-разному проявили интерес к противоположным акцентам мироздания: пассивному и активному. Кант выбрал внутреннее чувство, которое пассивно, и вещь в себе, которая оставляет разум в области явлений и не позволяет на себе «резвиться». Ещё он сформулировал понятие о свободе, обоснованной нравственностью: подчинение нравственности без свободы воли делало бы человека автоматом. Канта интересовал нравственный закон внутри нас и звёздное небо над головой. Такой закон, как звёздное небо над головой, должен иметь объективный момент. Под нравственностью Кант подразумевал категорический императив. Он, конечно, понимал не хуже Гегеля, что объективировал «я», и, чтобы осмыслить своё открытие, написал «Критику практического разума», но, как оказалось, заклинать «вещь в себе» нельзя. Световодозвуконепроницаемый смысл не подчиняется заклинаниям. Он – активный и делает, что нравится: нравственный = свободный…
Философия дотянулась и до альтернативы категорическому императиву. Ею оказалось Ничто или ужас – состояние бытия, выступившего за пределы сущего. «Только на основе изначальной явленности Ничто человеческое присутствие в состоянии подойти к сущему и вникнуть в него». (Хайдегер).
Гегель выбрал истину разума вместо непознаваемой «вещи в себе», многое взял у Канта, но справедливо не считает себя его учеником… Кажется, Гуссерль пытался соединить учения Канта и Гегеля…
Мартин Хайдеггер – не первый, заметивший существование ничто. Логическое начало Гегеля тоже включает бытие и ничто. По мнению Гегеля, в объективной логике непосредственное является тем простым, с чего всё начинается, истина уже результат и опосредованное, а простое – едино. «Простое» в пространстве-времени не существует. Это уловка тёмного предшественника – четырёхмерные контуры какой-то более многомерной сущности назвать простым… Извратив Гегеля, Маркс придал абсолютный характер борьбе противоположностей, их единство посчитал неустойчивым моментом. «Здравый смысл всё разделяет: с одной стороны, с другой стороны». (Делёз). Маркс требует «жертв пролетариату», дискурсивен, – но тупик дискурса социалистов Ницше рассмотрел в облике нигилизма… и Марксу, конечно, было у кого набраться духа «изменять мир». Гегель хотел быть активным, но активность не знает масштабов применения, как и смысл, который приходит первым. Вот Кант не является предтечей тоталитаризма…
Априорность может показаться величайшим достижением разума, преобразующего мир, но цель здравого смысла – потакать эмоциям. Что за прелесть здравый смысл, можно понять только в итоге. Этот «итог» есть в марксизме, благодаря ленинизму, и, как правило, итог здравого смысла демонстрируют старые люди. В рамках собственных представлений они ведут себя рационально: «Люди старятся, как они живут». Когда Фрейд выдумывал, что К. Г. Юнг бунтует против него, как сын против отца, он демонстрировал «здравый смысл» своего учения.
Проблема «начала мышления» засела в философии, как неразрешимая. Гегель, вроде бы, провозгласил «пустое логические начало» её решением, но сто пятьдесят лет спустя Фуко опять констатирует проблему: «Мы неизбежно будем двигаться к бесконечно удалённой точке, никогда не присутствующей ни в какой истории и являющейся лишь своей собственной пустотой… голосом тихим, как дыхание, фактом письма, представляющим собой только пустоту собственного следа… Все начала могли бы быть только воображением и сокрытием, а, по правде говоря, тем и другим одновременно». Можно сказать, это – современное развёрнутое определение пустого логического начала Гегеля… Наличное бытие противопоставлено Гегелем логическому началу, но, выдвинув его, он сохранил возможность начинать мыслить «с любого места». Такая произвольная активность не способна разрешить проблему начала мышления, сделать его универсальным для всех. Например, для религиозного сознания наличным бытием и началом является Бог. Это – общезначимый смысл для верующих, но атеисты могут на это только хлопать глазами… В качестве начала мышления в данной работе мы предложили эмоции. Маркс исходил тоже из наличного бытия. Пожалуй, никто не может исходить из пустого логического начала, а начало, которое не является всеобщим, – обусловлено. Может, стоит начинать с чего-то, что является сразу и началом, и концом, сходится само с собой? По Гегелю, совесть сводима к понятию долга, который может быть, как перед другими, так и перед собой. Долг состоит в том, чтобы всеобщее единство, чьим выражением мы все являемся, не пострадало… К сожалению, такое начало мышления претендует быть расписанием для мироздания, и выражает собой какой-то дискурс, который через некоторое время отменяется, и мы опять оказываемся без начала. На роль всеобщего претендуют только эмоции – одни и те же для всех, если не по содержанию, то по факту существования. Как и логическое начало Гегеля, они разделены, представляют собой безусловное, неразрывное единство, являются синтетическим понятием в соответствии с Кантом.
Согласившись с cogito Канта, Делёз и Гваттари уже не стремились утверждать никакого «я», считали его фактом психологии, даже упрекали Мелани Клейн, что та «не избавляется от той идеи, где шизопараноидные частичные объекты отсылают к некоему целому, которое то ли изначально встречается на первичной стадии, то ли должно прийти в будущем в конечной депрессивной позиции (полный Объект)». Реальное у Делёза и Гваттари есть результат пассивных синтезов желания: «Если желание производит, то производит реальное». – Желание у них обосновано фантазией, следовательно, реальное тоже обосновано фантазией. Это точное описание активной роли воображения. Фантазия лежит в основе внутреннего чувства, тем не менее, реальное – епархия эмпирического пространства и времени, – а не трансцендентальной идеальности. «Желание ни в чём не испытывает нехватки, ему не испытать нехватки в своём объекте. Скорее, именно субъект не достигает желания или же в желании отсутствует постоянный субъект: постоянный субъект бывает лишь благодаря подавлению». Это развёрнутое определение cogito Канта или внутреннего чувства, но сдвинуться к Гегелю, по которому разум обладает истиной и поэтому преобразует действительность, от пассивности cogito, у них не получилось, кажется, как и у Гуссерля. Хотя фантазия лежит в основе внутреннего чувства, но «постоянный субъект» испытывает нужду во всём… У него пассивная роль. Кант оказывается более прав, чем Гегель, но оба подхода обладают в себе некой истиной… Невозможно преодолеть дуализм, объединив в единое воззрение оптику Канта и Гегеля, и найти таким путём начало мышления. Эмоции преодолевают дуализм, включая его в себя, и являются таким началом, а Кант и Гегель оказываются предпочтениями человека совести или Нарцисса.
Ницше отверг субъект, предикат, логику… Он – активен и, вроде бы, на стороне Гегеля, но погрузился в психику… Сверхчеловек – нарциссическая идея. Николай Фёдоров обоснованно критикует Ницше, когда рассматривает его основополагающие идеи: «Когда он говорит о воле, стремящейся к власти, он забывает о теории бесконечных возвратов (несогласимой с волей), а когда говорит о неизбежности последних, забывает о власти воли». Тем не менее, благодаря Ницше, возникла свобода мыслить моральное: «Наш мир стал ложным благодаря тем свойствам, которые составляют его реальность: благодаря изменчивости, становлению, множественности, противоречию, противоположности». Честный подход – это нравственно, но и категорический императив Канта объективен, как звёздное небо над головой. Это – нравственность «я», которая отличается от нравственности Нарцисса. Если нравственность Нарцисса отдаёт «другому» то, что хочет, то категорический императив – необходимое себе самому. Он требует свободы от себя самого лично. При таком подходе свобода прослеживается, как общее основание категорического императива и нравственности. Они вместе ею обоснованы, но нравственность борется с категорическим императивом. Что Нарциссу сделано хорошо, конечно, ему нравиться, но «неблагодарность – обычная плата за хорошую работу». Нарцисс уже получил «своё», он желает предаваться себе в полном соответствии со своей природой и преодолевает категорический императив насмешливым пренебрежением. Категорический императив преодолевает нравственность. Дискурс борется с менталитетом, категорический императив – с нравственностью, но тёмный предшественник оставил знак в языке, что они – одно и то же, назвав: нравственностью. То ли это язык беден, то ли тёмный предшественник мудр, выражая одним словом активное и пассивное. В активной позиции нравственность и категорический императив притворяются друг другом: категорический императив – нравственностью, а нравственность – категорическим императивом.
Об авторе: Михаил Петрович Макушев, филолог по образованию, первая книга «Гадкие утята» вышла под псевдонимом Свами Матхама и осталась неизвестна; в итоге превратилась в цикл из пяти книг: «Мир без времени», «В поисках своего я», «Мир в котором живёт Нарцисс», «Моя дорога в никуда» и «Вечное возвращение».